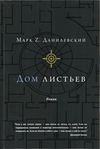Урал – быстра река

Оренбургский казак Иван Степанович Веневцев родился в посёлке Благословенском станицы Оренбургской (современное село Благословенка Оренбургского района Оренбургской области) в 1896 году, месяц и день рождения пока неизвестны. Отец его Степан Антонович Веневцев девять лет служил атаманом посёлка. В отличие от старшего брата Василия (в романе – Дмитрий) Иван Веневцев не успел поступить в юнкерское училище, как мечталось, хотя и напряжённо готовился к экзаменам – помешала Гражданская война. Выбор Ивана – нравственный и сословный – прямо зависел от выбора по-юношески любимого им старшего брата. Как и Василий, Иван вступил в войско атамана Дутова, прошёл с ним крестные муки Голодного похода.
Казачий роман-реквием Ивана Веневцева
Этот роман (авторское название «Михаил Веренцов») о «неизвестной» во многом Гражданской войне на землях Оренбургского казачьего войска идёт к читателю около семи десятилетий. Судьба его рукописи, созданной за колючей проволокой Карагандинского исправительно-трудового лагеря, напоминает судьбу самого казачества, обречённого на физическое и духовное уничтожение как народный уклад и образ жизни, как народная вселенная.
Через семь десятилетий после Великого по народным страданиям Октябрьского переворота мы начали эпически вглядываться в кромешную тьму братоубийственной катастрофы. Свою правду о ней в нашей стране говорили лишь победители, хотя подлинные победители в гражданских войнах чаще всего остаются за непроницаемым занавесом истории.
После завершения Гражданской войны в России лукавые или безбожно-простодушные идеологи победившей стороны начали канонизацию, освящение классового видения её хода и её итогов. Всё, что отходило от канонов, попадало в разряд «антисоветчины» или «политически незрелого». Только гению Шолохова удалось – и это можно назвать чудом – показать невозможную по тем временам трагическую правду личности и истории.
Недостаточно было уничтожить противника как боевую силу, надо было на протяжении десятков лет добивать память о нём исторической полуправдой, которая хуже всякой лжи.
«Добрая слава лежит, а худая бежит», – говорят в народе. Всею мощью своего идеологического аппарата государство помогало распространяться худой славе Белого движения, неизбежной в глобальном противостоянии, оставляя «лежать» в спецхранах чистоту помыслов и жертвенность белых патриотов.
Можно только предположить, что испытывали при этом оставшиеся в живых представители оболганных поколений. Обжёгшие их события на землях Оренбургского казачьего войска по своим масштабам и напряжению, военным и политическим последствиям были ничуть не меньше событий на Дону. Единственное, что могло примирить их с жестоким временем, – это правда о них самих, воздающая по заслугам каждому – как отпущение грехов, заслуженных и незаслуженных. Оскорблённость массированной ложью, ответственность перед павшими братьями – вот что могло подвигнуть участника братоубийственной войны, каким был старший урядник Иван Степанович Веневцев, на отчаянный труд: создание романа-свидетельства, романа-хроники о пережитой трагедии.
Всякой письменной истории предшествует история устная. Народ творит фольклор, давая времени свою, единственно верную оценку. Если устные рассказы очевидца или участника поразивших его событий талантливы, а содержание его «бывальщин» отвечает общественным запросам, тогда рассказанное становится фактом общественного сознания, а многократно проверенные на слушателях рассказы о пережитом складываются в главки и главы народного романа. Здесь должны вспомниться традиции русского летописания, которое всегда было не от честолюбивого умения, а от гражданской боли. «Мёртвый ничего не скажет, а за него спросится».
У Ивана Веневцева был острый глаз и большое сердце. Не приходится говорить о его относительно счастливой звезде – не убили его ни пуля, ни штык в Гражданской, ни революционный, скорый суд победителей, ни «чёрные дыры» тюрем и лагерей. И если служители неволи не создавали ему особых условий для писательской работы, то – и это тоже чудо – не мешали заниматься делом, лагерным режимом не предусмотренным. Об этом с благодарностью (жестоко было бы гадать, насколько она искренна) вспоминает автор романа, перечисляя поимённо невольных помощников.
Так и скажешь: многим грезилось, а одному сбылось. У Ивана Веневцева, автора единственной книги, был не только личный опыт «посетившего мир в его минуты роковые», его неотступно понуждал трагический опыт поколения, по сути, целиком взятого Молохом двух Мировых и Гражданской войн. Он писал языком и жизненными представлениями этого поколения, на котором насильственно оборвалась связь времён.
Что же за произведение создал в столь неподходящих условиях родовой казак, дутовец, советский бухгалтер и заключённый Иван Веневцев? Его автобиографический роман – это история детства, отрочества и юности казачьего сына Михаила Веренцова, которому уготовано было появиться на свет накануне кровавого, полыхающего апокалиптическими огнями столетия. На юности главного героя – багровые отсветы братоубийственной бойни, прямым участником и жертвой которой он оказался.
Оренбургский казак Иван Степанович Веневцев родился в посёлке Благословенском станицы Оренбургской (современное село Благословенка Оренбургского района Оренбургской области) в 1896 году, месяц и день рождения пока неизвестны. Отец его, Степан Антонович Веневцев, девять лет служил атаманом посёлка. В отличие от старшего брата Василия (в романе – Дмитрий) Иван Веневцев не успел поступить в юнкерское училище, как мечталось, хотя и напряжённо готовился к экзаменам – помешала Гражданская война. Выбор Ивана – нравственный и сословный – прямо зависел от выбора по-юношески любимого им старшего брата. Как и Василий, Иван вступил в войско атамана Дутова, прошёл с ним крестные муки Голодного похода.
После разгрома белой армии старшего урядника Ивана Веневцева осудили на два года тюрьмы. Этот свой первый срок отсидел он в г. Новониколаевске (с 1925 г. – Новосибирск) и в 1921 году вернулся домой, в сожжённую и разорённую станицу. Следуя жизненной канве, событиями этого времени заканчивается (а начинается кануном Первой мировой войны) автобиографический роман.
Но для автора романа крестный путь продолжился. Вот некоторые «узлы» его жизни. 1926 год. Курсы бухгалтеров в Оренбурге. Работа по специальности в первом ауле совхоза «Караванный». 1929 – очередной смутный год: коллективизация. Чудом избежал нового ареста: ОГПУ «подчищало» белоказаков, освобождённых по амнистии (гарантии безопасности, данной командующим Восточным и Туркестанским фронтами Михаилом Фрунзе противникам Советской власти, добровольно сложившим оружие). Уехал в Среднюю Азию. Переходил из одной организации в другую. Сменил фамилию на Ковалёв, чувствуя пристальную опеку чекистов.
Между тем из Благословенского доходили плохие вести: там голод. Спасаясь от голодной смерти, жена с его матерью, двумя дочерями и сыном уехали в Коканд.
Жена устроилась рабочей на завод безалкогольных напитков. Жили впроголодь, но сын Сергей окончил механический техникум. Иван Степанович помогал семье, как мог, «оберегая» её от себя. И всё-таки в сорок первом не уберёгся сам. Арест, лагерь, теперь под Карагандой. Его сын Сергей Иванович Веневцев в том же году пошёл на фронт, чтобы в сорок шестом в звании майора и с боевыми наградами вернуться «домой», в Коканд.
Второй раз в местах лишения свободы Иван Веневцев находился с октября 1941 года. Но только в феврале 1943-го, как свидетельствует архивный документ, осуждён Особым Совещанием НКВД за антисоветскую агитацию без указания статьи (!) сроком на десять лет. То есть его на полтора года лишили свободы без приговора даже того закрытого заседания «тройки», которая с 1934 по 1953 год заменяла суд.
Резкий штрих времени. В архивной карточке Карлага МВД, заведённой на И.С. Веневцева-Ковалёва, нет данных о его первой судимости, но годом рождения назван 1900-й. Сдаётся, одно зависело от другого. Не удайся Веневцеву «омолодить» себя, чтобы к началу Гражданской ходить в казачьих малолетках (17–19 лет – до принятия присяги), вряд ли мы читали бы сейчас его свидетельство об этой войне – кровь людская в XX веке, что водица…
Мы не знаем, как пришла Ивану Веневцеву идея написания романа. По рассказам сына, «он был живым, эрудированным. Это был настоящий казак!.. Отлично играл на гармошке, пожалуй, лучше всех в станице. Дома в зимнее время… читал вслух для всех. В доме были настольные книги: Библия, “Война и мир”, “Тарас Бульба”, “Тихий Дон”… Книги отец приносил из станичной библиотеки (была такая при школе), привозил из города. Организовал в станице драмкружок. В основном ставили спектакли из комедийных произведений Гоголя. Всё это в зимнее время, когда не было полевых работ. Сам и режиссёр, и артист… Клуба не было, все спектакли проводили в школе, в воскресные дни. Народу набивалось “под завязку”, хохот стоял такой, что слышно было на улице…
Ни с кем никогда не ссорился. Его уважали и называли только по имени и отчеству. И вообще, в станице наша фамилия пользовалась авторитетом, и не только мы, а все три ветви Веневцевых, которые приехали из станицы Городище… Я лично его уважал и никогда не называл на “ты”, только “вы”. Когда он скитался по Средней Азии, не имея возможности долго находиться на одном месте… мы с ним иногда встречались. У нас в разговоре были только шутки и смех. Он не унывал, был весёлым».
Может, как раз здесь и разгадка чуда создания романа. У его автора был народный характер, из тех, что в огне не горят и в воде не тонут. Словно великий романист движет рукой казачьего сына Сергея Ивановича – пишет о смехе и шутках отца, но какие душевные запасы нужно иметь для этого смеха и этих шуток!
Да, наверное только такая личность и могла решиться на труд неведомый и неподъёмный, невозможный труд. Думаю, что для казака Ивана Веневцева это была форма сопротивления. К этому подвигает даже нечаянная метафора – перевод немецкого слова «Kraft» – сила. Именно на серо-жёлтых «железных» листах крафт-бумаги, нарезанных из мешков для цемента, писался роман о казачьем мире и казачьей войне, начатый и законченный в лагерной неволе в 1945–1947 годах. Рукопись хранится в домашнем архиве внука автора по материнской линии Сергея Федоровича Попова – активнейшего участника подготовки романа к изданию.
В сорок шестом сын получил письмо из Караганды: «Приезжай, забери рукопись…» Сергей Иванович смог приехать только в сорок седьмом. Отец был уже расконвоирован. Он передал сыну вторую, восстановленную по памяти рукопись – первую в зоне украли. Сергей Иванович отвёз её в Коканд, перепечатал, чтобы показать в Москве, в Союзе писателей. Но рецензировавший рукопись литературный консультант предостерёг его: «Она (рукопись. – В.К.) несвоевременна, с ней наживёшь много неприятностей!» Гражданская война в умах продолжалась.
В пятидесятом Сергей Иванович решается написать Шолохову. Великий писатель ответил: «Ознакомиться с рукописью Вашего отца, к сожалению, не могу, т.к. загружен работой».
В пятьдесят первом Иван Веневцев вышел из лагерной зоны, но не из сферы внимания «вдумчивых биографов» МВД. Его оставили «на поселении» неподалёку, в посёлке Долинка. В последующие годы Иван Степанович пытался переделывать роман, убирая из него острые места, видимо, поздним страхом испугавшись за детей. Дописал страницы отступления – исхода казачьего войска в Китай.
Президиум Ферганского областного суда 9 сентября 1960 года пересмотрел дело по обвинению Веневцева Ивана Степановича. Можно лишь попытаться представить, какой музыкой освобождения прозвучали для него машинописные строки судебной справки: «Постановление Особого Совещания при НКВД СССР от 10 марта 1943 года отменено и дело производством прекращено за отсутствием состава преступления. Веневцев И.С. реабилитирован».
В 1974 году он скончался в пос. Долинка, месте своего поселения, так и не повидавшись с родиной.
Сергей Иванович – к тому времени он жил в Выборге – свёл отцовские рукописи в одну и опять предлагал казачью летопись «литературным часовым» – в журнале «Нева», Союзе писателей РСФСР. Ответы по духу времени были спокойнее, но заканчивались отказом – рукопись требовала литературной доработки. Так в своих поисках он добрался до родины, до места действия романа, до Оренбургской организации Союза писателей России. Вернулся на родину и возвращается к землякам-читателям и труд его отца – эпический документ из кровавого архива Гражданской войны. Действительно, «рукописи не горят».
Какова же художественная ценность этих картин национального апокалипсиса, увиденных глазами «простого» казака, переданных языком литературного дилетанта – интеллигента в первом поколении, одарённого от природы? Если идти по пути аналогий с Великой Отечественной войной, с её художественной «окопной правдой», то летопись Ивана Веневцева можно назвать «правдой с высоты казачьего седла», а его прозу – народным сентиментальным романом, где все действующие лица, и прежде всего главный герой Михаил Веренцов, носят родовые черты их создателя – рассказчика из народа.
Именно этим обусловлен народный, сильный, выразительный язык персонажей из среды, генетически общей с автором, и именно поэтому чаще всего был обеднён, грешил канцеляризмами язык персонажей из другого, «светского» мира, как и язык авторских размышлений, характеристик, выводов. По этой же причине произвольна, стихийна композиция произведения.
Нельзя ни на минуту забывать, что роман создавался под вышками часовых: над ухом автора, одетого в робу зэка, жарко дышало время, живущее по законам Гражданской войны. Отсюда понятней изобразительные удачи первой части романа, повествующей о детстве и ранней юности действующих лиц, и нервный, фрагментарный, уходящий зачастую в газетный документализм характер второй части с кровавым абсурдом братоубийственной бойни.
Роман – свидетельство непосредственного участника событий – приоткрывает тщательно замолчанную, неизвестную до 90-х годов минувшего века – времени газетной публикации первой части романа – революционную тайну тех дней. Позднейшие оренбургские исторические хроники настаивают на том, что «особую роль в разрастании гражданской войны сыграл налёт в ночь с 3 на 4 апреля (1918 года. – В.К.) белоказаков на спящий Оренбург. Ворвавшиеся в город учинили зверскую резню. Было жестоко зарублено 129 человек, в их числе старики, женщины и дети. Обстановка в Оренбурге накалилась до предела, рабочих охватила ненависть к тем, кто совершил злодеяние. Было возможно, что она распространится на всех казаков, тем более что в городе уже были случаи самосудов по отношению к ним».
Главный вопрос: что вызвало столь жестокий характер налёта казаков – профессиональных защитников Отечества, а не наёмных убийц? Ответ дан в первой части романа: «отворило кровь» провокационное разрушение, видимо, в феврале–марте 1918-го державного символа казачьего войска – конной статуи вооружённого казака на Форштадтской площади Оренбурга. Иезуитский расчёт оказался точным: кровь «закипела в жилах» казаков-стариков, казаков – героев Первой мировой – их было немало – при виде такого кощунства в святая святых казачьей воинской славы – у Знамённой войсковой избы. В этот драматичный ряд становилась и первая живая жертва новой власти – бессудный расстрел на 18-м разъезде арестованного на станции Платовка возращавшегося с фронта казачьего генерал-майора П.В. Хлебникова. Автор воспоминаний-исследования «Оренбургское казачье войско в борьбе с большевиками. 1917–1918 годы» И.Г. Акулинин, помощник войскового атамана, командир II и I казачьих корпусов в 1918–1919 годах, писал: «Заняв Оренбург (31 января 1918 года. – В.К.) и утвердившись на территории Оренбургского войска, большевики сразу показали себя казакам.
Всюду – в городах и станицах – начались кровавые расправы, грабежи и разбой. Несколько станиц было сожжено дотла; миллионы пудов хлеба вывезены или уничтожены; тысячи голов лошадей и скота угнаны или зарезаны на местах; масса имущества разграблена. Все станицы и посёлки, независимо от того, принимали участие в борьбе против большевиков или оставались нейтральными, заплатили денежные контрибуции и затем были обложены громадными налогами. Большевики всех казаков без разбора совершенно искренно считали врагами советской власти и потому ни с кем не церемонились. Много офицеров, чиновников, казаков и даже казачек было расстреляно; ещё больше посажено в тюрьму. Особенно свирепствовали большевики в самом городе Оренбурге.
Такие мероприятия со стороны большевиков быстро отрезвили не только казаков-стариков, но и казаков-фронтовиков и заставили их взяться за оружие».
В этой связи вспоминается разговор со старейшим научным сотрудником Оренбургского областного краеведческого музея Сергеем Александровичем Поповым (1905–1986) в семидесятых годах: он рассказывал, что из себя представлял Оренбург – город армейских военных, казаков, купцов и ремесленников в 20-х годах прошлого века. После Гражданской войны и революционных чисток город был настолько обезлюжен, что новоприехавшим сюда приходилось выбирать для жительства не дома даже, а улицы с несколькими заселёнными подряд домами – по соображениям безопасности…
Надо думать, главной болью для автора, органически не способного на лукавство, была невозможность озвученного объективного взгляда на страшные годины русской истории. Кто знает, сколько бесценных эпизодов и оценок выкинуто им при многочисленных переделках рукописи! Писать сусальные картинки в духе кинофильма «Кубанские казаки» автору не позволила бы кровь старшего брата и всего его «потерянного поколения», изображать же пережитую действительность без внутреннего цензора было самоубийством.
Литературная обработка многострадальной рукописи не должна была «навредить» ни автору, ни изображаемому времени. Поэтому оставлено, по сути, без вмешательства всё художественно самобытное, всё, что можно отнести к авторским достижениям. Важно было не исказить исторических акцентов авторского текста, чтобы и в частностях они соответствовали «гласу народному – гласу Божьему». Предприняты попытки бережной реставрации, освобождения от издержек стиля, дан как бы «перевод» неудачных мест, стилистически приближающий автора к самому себе – лучшему.
Особое слово о сыне автора романа Сергее Ивановиче Веневцеве (1916–2003) и его внуке по материнской линии Сергее Фёдоровиче Попове – творческих душеприказчиках писателя, чьими заботами, в том числе и финансовыми, рукопись романа не только не затерялась на перекрёстках времён, но обрела «второе рождение», получила прописку в оренбургской прозе – первая часть романа под названием «Рубеж» опубликована в газете «Оренбургский казачий вестник» за 1993 год. Не чуждые литературного творчества, они во многом помогли прояснить детали казачьего быта, говора, ушедших в историю.
Перед публикацией в газете «Оренбургский казачий вестник» мы поместили в областной газете «Оренбуржье» отрывок из романа с биографией автора. Вот что писал по этому поводу 21 декабря 1992 года Сергей Иванович: «Получил сегодня Ваше большое письмо с газетами “Оренбуржье”. Очень Вам, до глубины души, благодарен. Спасибо огромное. Лёд тронулся, слава Богу, почти через 50 лет! Не утерпел, открыл конверт на почте, но читать не мог. Слёзы радости и обиды за казачество застилали глаза. И сожаления о том, что отец не дожил до этой счастливой минуты. Минуты, когда благодаря Вам... его строки романа, написанные за колючей проволокой, увидели свет и их увидят в первую очередь милые сердцу уральцы – оренбуржцы – станичники – благословенцы…»
Накануне столетия Октябрьского переворота (И.В. Сталин) с его космическими светотенями было бы исторической безответственностью держать под спудом такой документ при всех его художественных несовершенствах. Слишком мало объективных свидетельств из её драматичных страниц – истории сопротивления Оренбургского казачьего войска оставила эпоха самоуничтожения великого народа, слишком дорога здесь каждая живая деталь, чтобы поступиться «самодельным» романом Ивана Веневцева – единственным в своём роде произведением, сбережённым временем, – если не в назиданье, то хотя бы в раздумье потомкам.
Валерий Кузнецов
1 ноября 1995 – ноябрь 2015 гг.
Часть первая
НАБАТЫ[1]
Край мой казачий
1.
Белёсым бархатом блестят выжженные солнцем степи оренбургского казачества – это выцветшим ковылём выстелены почти безлюдные равнины. Только вихри степные в полдневный зной нарушают тишину, с шумом и свистом бешеной свадьбой несутся они по полям, срывая сухую траву и колючку-катун, мешая в кучу, уносят спиралью до облаков. Точно вьётся страшная веревка, а конец уходит в небо. Застигнутый врасплох жаворонок, скрученный потоками воздуха, долго не может выпутаться из смерча. Обескураженный стрепет теряет равновесие, кувыркается в траву.
Бегут вихри, бесследно исчезают. После них – опять тишина, сухой зной и марево. Синяя дымка скрывает даль.
Но вот на горизонте появляются кучевые облака, они поминутно растут, превращаясь в гигантские фантастические фигуры, ширятся, сливаются в огромную чёрную тучу, впереди которой идёт буря – самая страшная из стихий в этих местах. Не устоять против бури ни конному, ни пешему. Всё живое стремглав спешит укрыться в убежища.
Буря срывает скирды сена и соломы, подбрасывает их кверху в бешеной игре, былками[2] расстилает по земле; крыши с домов закидывает за село.
Вслед за бурей с неба падает море воды. От грозовых раскатов с дребезгом вылетают оконные стёкла.
Ливень ужасный, разрушительный проносится, оставляя за собой ярко-промытую радугу и отдалённые раскаты грома. Тучу с дождём и громом унёс ветер.
Выходит и нещадно палит солнце. Дождевая вода стекает в низины, через час-два прошла, высохла. Робко поднимается поваленная дождём трава. Расправляя крылья, сушатся на солнце вороны, грачи, галки – все, застигнутые дождём в открытом поле и промокшие насквозь в своём убежище. Сейчас они не могут летать, их можно ловить руками. Пернатые хищники бьют их насмерть…
2.
После таяния снегов невиданно преображается степь. Всеми цветами радуги торжествует живой зелёный ковёр на все стороны света. Мириады жёлтых, красных, фиолетовых тюльпанов вспыхивают на нём. Жаворонки над головой разливают свои радостно-мелодичные рулады.
Выпорхнув из травы, небольшая с розовой грудкой птичка сидит, раскачиваясь, над кустиком зелёной травы, обхватив тоненькими лапками веточку и не боясь человека, как бы выговаривает жалобно: «Чуть-чуть си-и-жу, чуть-чуть си-и-жу!». Ей на разные голоса вторят другие.
Человека степные пичуги подпускают почти вплотную. Посмотришь под куст: там маленькое круглое гнёздышко, искусно сплетённое из мягкой травы и выложенное внутри пухом, – а в нём пяток яичек. Пройдёшь дальше, а птичка опять сядет на своё место в гнездо. Через несколько шагов всё повторяется: взлёт другой птахи над кустом – и опять гнёздышко. Цвет яичек разный: у одних белый, у других, как небо, голубой, у третьих – серый.
…И окраска оперенья, и песни птиц – всё множит собой роскошное степное разнообразье.
А какую радость даёт этот мир: и цветы, и зелень без края, и чистые птичьи голоса, и этот жёлто-коричневый или сизо-лиловый, распластавший трепещущие крылья, как бы зависший на одном месте и зорко высматривающий в густой траве добычу, кобчик!..
А воздух степной! Им не надышишься, он не умещается в лёгких, его хочется глотать, пить – этот сухой настой цветов и трав!.. Запахи степи особенно остры после дождя, когда горячими золотистыми лучами выходит из-за туч солнце.
А звери, а птицы степи! Кого там только нет! Раздолье для охотника… Точно стада баранов, бродят по степям долгоногие журавли, охотясь за змеями, ящерицами, насекомыми. Накапливают жир тяжёлые дудаки-дрофы, с трудом, лениво поднимаясь в воздух. Низко пригнув шеи под сплошной кошмой гниющей стари-травы, укрываются куропатки, стрепеты…
На Урале и приуральных луговых озёрах стадами плавают лебеди, гуси, утки, казарки. В небе парит орёл, выслеживая пернатую добычу, камнем бросается с огромной высоты, грудью разит жертву наверняка, насмерть. Беркут и чёрный ворон спешат полакомиться остатками орлиного пира.
Человеку незаметна жестокая борьба за жизнь этого мира. Сколько степных существ в страданиях погибает, когда борьба становится непосильной, сколько растерзывается и пожирается более сильными и хищными! Остается беспомощное потомство, или дети умирают на глазах родителей, вызывая страдание.
Незаметна человеку эта жизнь, полная неведомых ему страстей, стремлений и противоречий. А степному миру незаметна жестокая, осмысленная и кровожадная – борьба человеческая.
3.
Голубой зигзагообразной лентой разрезая степные дали, тянется река Урал, указывая границу между Европой и Азией. Здесь когда-то угрожали Европе с востока кочевые народы. Вставшее на этом рубеже казачество вело жесточайшую борьбу, оберегая русские земли от степных набегов. Постоянным аванпостом казачество заслоняло границы от посягательств на мирную жизнь Руси. Как из гигантского мешка, рассеивались казачьи кости по степным просторам, где потом – грибами на токовищах в дождливую осень – родились станицы.
На рубежах святой Руси
Всегда стояли казаки,
В руках их пики и клинки,
А смерть всегда за их плечами…
Жизнь в пограничной полосе подвергала казака постоянной опасности, заставляла быть всегда готовым к её отражению. Даже на полевые работы и пастьбу скота мужчины выезжали вооружёнными. Владели оружием и жёны казаков. Не однажды в отсутствие мужчин женщины защищали свои станицы от внезапных нападений.
Жизнь отбирала людей с сильным характером, выносливых, неустрашимых. Вырабатывала смелость, находчивость, умение приспосабливаться к обстановке. Среди казаков было равенство, в руководители избирались отличившиеся умом, талантом, храбростью. Привилегий по происхождению, знатности, богатству казаки не знали.
Кошмарным сном остались позади буйные времена, когда тёмными ночами, пригнувшись к луке седла, рыскали по степи чёрные всадники в малахаях с длинными чеблыками[3] в руках. Мёртвой петлей на чеблыках привязаны окрюки-арканы. На ночных тропах через непроходимые камышовые, тростниковые ли заросли по речкам Бердянке и Илеку таились казаки, ожидая недруга. По тропам, оставшимся без караула, тихо прокрадывались лихие люди, проникали в станицы, сеяли огонь и смерть, уводили пленников – мужчин и женщин от мала до велика или, застигнутые казаками, прощались с жизнью. Выли тогда, рвали длинные косы их черноглазые жёны, оплакивая своих джигитов, которым не удалось украсть русскую женщину или дебелого казака для богатого выкупа. Не увидеться с ними больше никогда, сложили они свои головушки в жарких схватках с казаками. Их не увидят родные, их не увидят привольные степи, их не забудут всю жизнь, какой бы долгой она ни была.
Зачем уничтожались с обеих сторон прекрасные, полные здоровья и сил жизни? Земли не хватало? Полей, просторов? Нажива ли была целью,
подстрекательство ли сильных мира? Не задавались этими вопросами ни кочевники, ни казаки, а выполняли волю пославших и гибли… Лилась, лилась кровь. Берега Урала, Бердянки, Илека усеяны костями казаков и кочевников.
4.
Высокая гора Маячная на правом берегу Бердянки в двух верстах от её впадения в Урал – постоянное убежище для нападающих и укрывающихся от преследования кочевников. С севера она прикрыта зарослями и стремниной Урала, с запада – горой и речкой. Скрытны здесь и пути нападения, и отступления.
В набег на казачий Приуральный пост выехал сам султан с большим отрядом из семидесяти двух всадников – отборных, закалённых в схватках. Предводитель на прекрасном сером в яблоках арабчике, приведённом год назад дядей султана из турецкого города Багдада[4]. Отряд джигитов посажен на одичалых коней – их подолгу держали в тёмных сараях, не выпуская на свет.
Набегом должно разгромить и уничтожить Приуральный, за ним – Родниковский и Паникинский посты. На них, отстоящих друг от друга на семь вёрст, не более трёх десятков казаков, разделённых на три группы. В случае удачи отряд проникнет на двадцать вёрст вглубь русской территории – до речки Донгуз.
С Приурального хорошо заметна необычная пыль из-за Маячной горы, выдающая большой отряд конницы. Время от времени на гору выскакивают два-три всадника и, погарцевав, скрываются.
Приуральный объявляет тревогу, он уже на конях. Поскакал гонец на Родниковский и Паникинский посты.
Разведчики султана разыскивают брод через Бердянку и доносят: река глубока, бродов нет, берега болотистые, в тростниках и камыше. Если отряду броситься вплавь, он будет уничтожен, прежде чем достигнет берега.
Султан решает переправляться через Бердянку в десяти–двенадцати верстах выше и быстро ведёт отряд туда. Пыль взлетает из-под ног коней. Казаки по своей территории сопровождают отряд, приближаясь к Родниковскому, потом и Паниковскому постам и соединяясь с ними. Это обещает удачу.
На двенадцатой версте облако пыли остановилось. Из складок местности появляются и скрываются конные. Ветер доносит крики – готовится атака. Через минуты киргизы[5] с душераздирающим гиканьем и криками «алла» полным карьером перескакивают пригорок, направляясь смешавшейся толпой к Бердянке. Мгновенье – и она форсирована. Казаки стремительно отходят вглубь своей территории, к Центральной горе, что в восьми верстах к юго-западу, на пути к Донгузу. Они тщетно ожидают подкрепления от Красноярского, Перовского и Донгузского постов – те отозваны на помощь Илеку. Казаки отступают уже пять, шесть, восемь вёрст. Вот уже верх горы стремительно надвигается под ноги коней. Кочевники давно бы настигли казаков, но не решаются, надеясь, что казачьи кони утомятся и будут отставать по одному. До казаков доносятся крики, смех и ругательства.
По казачьему отряду в тридцать четыре человека вполголоса передается команда взводного Устьянцева: «Отступать как раз до вершины горы, а потом – с Богом на супостатов».
Гора уже позволяет видеть через голову Донгуза прекрасную равнину Илецкой Защиты[6]. Вот и вершина горы ушла под копыта коней. Басом крикнул Устьянцев:
– С Богом на врага! – и крепко выругался.
Будто вихрь налетел на казачьих коней, осадил, поднял их на дыбы, круто повернул на задних ногах. Машинально, без команды выхватили казаки клинки из ножен, радугой, разящей молнией блеснули ими на солнце.
Дрогнули, смешались нападавшие. Кто-то повернул назад, другие их задерживают. Грозная лавина сбилась в кучу, рождая панику. Казаки атаковали с обоих флангов, проникли в тыл.
Не было команды у кочевников. Все командовали или все поднимали панику, нагнетая страх.
Устьянцев давно приметил султана на яблочном арабчике. Отступая, оглядывался, ждал его в первые ряды, чтобы при контратаке сразу напасть, но тот скакал далеко сзади, а теперь сдерживал отступающих.
Устьянцев взял повод коня далеко вправо, огибал противника, ломился в тыл, к султану. Он не думал о том, что может быть смят и растерзан отступающими. Он низко пригнулся, чуть не лежал на гриве коня. Клинок, неумолимое оружие взводного, опущен чуть не до земли. Теперь Устьянцев стремительно несётся на султане, ещё мгновение – и обрушится на молодого, неопытного соперника. Нападая с тыла, казак уже в двадцати–пятнадцати–десяти конских прыжков от султана. Заметавшегося предводителя защищают четверо. Один выступил вперёд, видимо, на глазах вождя готовый умереть за него – устремил своё длинное копье в грудь Устьянцева. Взводный взметнул клинок – копье отскочило выше его головы. Концом клинка казак ткнул противника ниже глаза.
Двое грозили копьями с обеих сторон. Удар одного прошёл мимо, второй глубоко вонзил копьё в бедро взводного. Устьянцев ударил шашкой по копью, ломая его, железный конец остался в теле. Вторым ударом, перерубая ключицу, рассёк плечо противника.
Последний противник султана отскочил, освобождая доступ к нему, растерявшемуся, не успевшему защититься. Клинок казака на вершок от конца завяз выше уха в голове султана. Мотнувшись назад в седле, султан натянул поводья коня, валясь к нему на круп. Арабчик встал на задние ноги, чуть не опрокидываясь на спину. Султан рухнул на траву и лежал бездыханно, как подкошенная трава.
В беспорядке, с криками «алла» отступали кочевники десять вёрст на Бердянку. Из всего отряда спаслись на быстрых конях только двадцать два джигита.
Копьё из тела Устьянцев вырвал тотчас после схватки с султаном. На пятой версте погони он, теряя кровь, в беспамятстве свалился с коня. Его нашли в траве, доставили на кордон. Арабчик убежал с отступившими.
Султана похоронили со всеми почестями как военачальника на месте его смерти в одном из оврагов Центральной горы. Этот овраг до сих пор называется «Султанский».
На крутом берегу речки Паники схоронили убитых казаков. На могиле поставили грубый дубовый крест с простой надписью: «Сидесь схоронены казаки Новоженин Митрий, Перов Гриша, Усянцев Пашурка, да Иванов Лексей, да Андронов Михайло, да Извозчиков Ондрюша. Убиты в бою с киргизцами 20 июня 1831 года. Вечна им память. Бох им судья». Впоследствии на этом месте вырос богатый хутор Мокеев. А Григорий Устьянцев, потерявший в этом бою меньшего брата, стал основателем станицы Благословенной.
5.
Станица Благословенная – бывший кордон Приуральный, входивший в состав Оренбургской станицы – заняла левый берег Урала в восемнадцати верстах выше Оренбурга и в трёх верстах от речки Бердянки.
Несколько семей русских казаков – в их числе Веренцовы – переселились сюда в первой половине XIX века из большой уральской станицы Городище. Из станицы Островной Благословенную пополнили украинские казаки – потомки запорожцев. Когда Екатерина II упразднила Запорожскую Сечь, часть казаков ушла за пределы России – в Турцию, часть – на Кубань и немногие – на Урал, где на одном из островов основали своё подобие Сечи – станицу Островную.
Переселившиеся отсюда казаки принесли с собой в Благословенную украинскую речь и свой быт: прежде всего, блистающие снаружи и внутри чистотой украинские хаты. Женщины ходили в национальной одежде, мужчины – в широченных штанах, заправленных в короткие мягкие сапожки, в белейших рубашках, расшитых замысловатыми рисунками. Бород украинские переселенцы не носили, в обычае были длинные усы с подусниками и оселедцы[7] на затылке.
Со временем перемешались станичники в родственных связях и фамилиях. Украинские перешли в русские: Щеголи стали Щеголевыми, Щербаки – Щербаковыми, Тырса – Тырсинами. И лишь Бурлуцких не тронули изменения.
Наместник царя на восточной окраине России, в Оренбургском крае, генерал Перовский посетил однажды кордон Приуральный и сказал казакам: «Вы стоите на острие киргизского копья. Благословляю вас на подвиги. И кордон ваш отныне нарекаю называть: станица Благословенная. С Богом!»
Этого угла степи не забудет история сопротивления кочевым набегам. Здесь задержаны вольные орды, надвигавшиеся с востока вниз по левому берегу Урала…
Отдохнули кочевники от грани, осели на земле, стали разводить несметные стада скота, понемногу сеять просо.
Потянулись бессчётные верблюжьи караваны с бубенцами и колокольчиками по караванным дорогам через киргизские степи из Бухарского, Кокандского, Текинского и других среднеазиатских ханств в Оренбург, в эту бездонную торговую пропасть. Прекратились набеги, вызывающие кровопролитные схватки, теперь казаки стали крепко дружить с киргизами. Всё в них нравилось казакам: лихость конной езды, гостеприимство, мягкость и уступчивость, верность в дружбе. Привлекала даже способность «чисто» украсть и не попасться. Почти те же качества киргизы находили в казаках. Прежней вражды как не бывало, об этом старались не упоминать, а если за рюмкой и поминалось, то в шутку: мол, вы убивали нас, а мы убивали вас, что поделаешь, один Бог без греха, такое было дурацкое время. Что было, то прошло. Не будем об этом говорить. Пей, Вилизбай, я свою рюмку уже доделал.
Теперь словно и солнце стали замечать обитатели этих прекрасных казачьих и киргизских равнин, замечать и радоваться ему. Словно посветлело и повеселело оно со времен кровавых столкновений.
6.
Вокруг казачьих станиц взломана целина, распаханы упругие, девственные ковыли, зреют там каждое лето обильные хлеба.
Июль… Дует лёгкий неизменный юго-западный ветер. Морской равниной волнуется золотая с тяжёлым крупным колосом пшеница, как морская зыбь, своей безбрежностью поглощает целые табуны скота при зазевавшемся пастухе. На краю жёлтого вздыхающего моря зеленеют поля, изрезанные ровными клетками, украшенные смеющимися подсолнухами. Это бахчи, усеянные жёлтыми медовыми дынями, зеленовато-белыми тонкокожими арбузами.
Воскресенье. По полям вдоль и поперёк скачут верхом и в телегах, с жёнами и в одиночку жители станицы. Здесь именно скачут, спокойно не ездят, всегда куда-то спешат, как на пожар. Климат, история и судьба выработали по своему вкусу местный темперамент. Здесь всё делается быстро, вскачь, ватагой. Так празднуют, так дерутся, работают, так спешат в армию в мирное время, так возвращаются обратно.
В свадебные и праздничные кутежи на улицах рискованно появляться, особенно в масленицу. Всё несётся в бешеной скачке, не разбирая дороги и углов, всё кричит, вываливается из саней, сваливается с коней, снова вскакивает и снова несётся, обгоняя друг друга. Там скачет верблюд, впряжённый в паре с коровой, они тащат плетень или воротное полотно с сидящим на нем народом. В кругу водка и закуска, все пьяные и пьют ещё. Пьяный кучер верхом на верблюде или корове завозит эту честную компанию в снежный сугроб, все переворачиваются, сваливаются вместе со своим столом в общую кучу. Трещат ребра, ломаются руки, женщины сверкают недозволенными местами. Дикий, гомерический смех, шутки… Опять сели на свою «повозку» и затянули песни или частушки под гармошку с присвистом. Снова соскакивают, начинают бешеные пляски вприсядку – крик, шум, хохот! Там группа в двадцать-тридцать всадников поскакала за станицу, на скачки.
К масленице в каждой станице складывается огромная снежная пирамида пяти-семи саженей[8] в диаметре и такой же высоты – «городок». Для прочности и скольжения он обливается водой. В назначенный день собираются казаки-взрослые и подростки, все на конях. Вначале городок берут старшие. Выстраиваются в версте в конном строю и по команде бросаются к нему бешеной ватагой. На пути – барьеры из хвороста и бревен, снежный вал, горящая свернутая жгутом солома. Перед самым городком атакующих обстреливает холостыми залпами пехота, забрасывает их снегом. Подскакав, атакующие со всех сторон спрыгивают с коней прямо на лёд городка. Чтобы удержаться на нём, у каждого в обеих руках железные тычки, похожие на укороченный штык. Они поочередно втыкаются в снег и позволяют сильному взобраться на верх пирамиды. Соревнующиеся спешат, давка невероятная, падает с высоты не удержавшийся, сшибает других ниже себя… Первый, одолевший подъём, кричит свою фамилию, за ним второй, третий, четвёртый – до четырёх разрядов даются призы. Первый – золотые часы или седло с набором, другие – подешевле.
После городка – джигитовка, рубка шашкой лозы, уколы пикой чучела. За это – новые и новые призы. Так целый день до ночи. Из станицы разъезжаются по хуторам и посёлкам поздно, часто в пургу. Взявших приз дома встречают восторженно и будут помнить об этом всю жизнь. Тут начинают «обмывать» призы. «Моют» и порой не замечают, что масленица прошла, и идёт Великий пост.
В Оренбурге праздником руководили специально назначенные атаманом отдела казаки. С утра гудит Форштадтская площадь, по обеим её сторонам курится парок от дыхания собравшихся. В центре, неподалёку от конной статуи казака, сложен городок.
Казаки в коротких бекешах[9], отороченных каракулем по полям, приполкам и стоячим воротникам. Тёмно-синие узкие брюки с широкими голубыми лампасами заправлены в сапоги с твёрдыми лакированными голенищами, некоторые подпоясаны голубыми кушаками. На головах папахи из чёрного и серого каракуля с верхом из тонкого голубого сукна, верх крест-накрест перехлёстнут позолочённой тесьмой. Из-под папах выпущены роскошные чубы. Казаки постарше – в полушубках и валенках-катанках. Ходят, переговариваются, шутят, ждут сигнала – ружейного выстрела холостым патроном – к атаке на городок. Все они будут болеть за своих станичников, подбадривать соревнующихся криками, репликами.
Красивая, дородная стоит казачка в толпе. На плечи поверх одежды накинут полушубок. Она пристально наблюдает за атакующими городок, не замечает острот в её адрес. Один из шутников, подкручивая усы, спрашивает:
– Ты чо, здобнушка, озябла штоль – полушубок-то одела? Можа, погреть?
Другой предупреждает:
– Мотри, Гриша, она те погрет! Хлеснёт наотмашь по роже – всю жисть будешь со спины смотреть, гляди, кака она лепёха!
Её муж, Щёголев Николай, тоже будет брать городок, брать приз. Ей не до острот и шуток. Наконец, долгожданно-неожиданно – выстрел! Сердце казачки замерло, щёки пылают жаром, внутри что-то оборвалось, она что-то шепчет: молится за мужа или ругается по адресу шутников – не разберёшь. Кругом бушует море: посвист, шум, гам, выкрики: «Не подгадь! Вася, Гриша, Миша…» и другие знакомые имена.
Конь Чалый под Николаем стелется до земли. Легко берёт препятствия, мчит своего хозяина к снежной пирамиде. Щёголев без папахи, тёмно-русый чуб откинут ветром в сторону, сам только в рубашке, снял верхнюю одежду – для лёгкости, потому жена и стоит в полушубке. Ольга вся внимание, истово выкрикивает:
– Коля, только приз. Не возьмёшь, дома ничо не получишь!
Стремительно близится ледяная глыба – осталось несколько бросков коню. Николай высвободил ноги из стремян, одной встал на седло, другой – на конский круп, напружиненно пригнулся и – как слизнула пирамида казака. Распластался на ледяном конусе, а тычки[10] в его руках заработали, подвигая извивающееся змеёй тело наверх, к заветной цели.
Из первого десятка Николай первый вскакивает на пирамиду, твёрдо и звонко выкрикивает: «Щёголев из Благословенной!» – и соскальзывает вниз. К нему уже ведут его Чалого. Он целует умного коня, гладит и треплет его шею, а тот своими бархатными губами треплет хозяина за плечо, словно поздравляет – просит угощения. Шерсть у Чалого закуржавилась завитками.
Ольга подбегает к мужу, сбрасывает полушубок на его плечи, отдаёт папаху чёрного каракуля… А сама! Так все, близко стоящие, и крякнули. Смоляные косы выбились из-под пуховой шали, лицо – румянец в обе щеки. Большие карие глаза так и сверкают – рада за мужа. А фигура! Идёт рядом с мужем, всё у неё так и колышется. Смотрят казаки масляными глазами и только усы подкручивают. Слышно весёлое:
– Эк, язви её, как разнесло-то её, заразу!
– Захошь поцеловать, дык не дотянешьса через груди-то!
– Ды где там…
От «козьих ножек» в морозном воздухе потянуло дымком махорки. Ольга улыбается. Зубы белее снега и ровные, как ножом подрезаны.
– М-да-а, – раздаётся в толпе. – Дык за таку бабу я бы на купол собора вскочил без тычек!
– Будет тебе! Окстись, охальник, – сильно нажимая на «о», говорит жена казака-завистника, дёргая его за полу. – Сбегай к Уралу, мырни в майну – остынешь маненько.
– Отстань, смола, – огрызается завистник. Жена его не хуже Ольги, только постарше чуть-чуть.
– Чо, Максимыч, съел? – подливает масла стоящий рядом казак.
– Мало попало, ишшо бы надо, – добавляет другой.
– Да ладно, – говорит Максимыч, – дай, Петрович, твово табачку, у тебя слашше, – а сам уже скручивает цигарку, лишь бы уйти от щекотливого разговора.
Второй выстрел! Сорвалась со старта следующая десятка… И так до конца дня.
Не у всех получалось гладко в эти дни. Вот конь одного казака зацепился задней ногой за брус препятствия и рухнул на снег вместе со всадником. Казака выбросило из седла, он проехал на груди, быстро вскочил – и к коню, впрыгнул в седло, помчался догонять ускакавших.
Другой прошёл все препятствия, остался горящий жгут. Конь испугался огня, встал на дыбы, закусил удила и поскакал вдоль жгута в сторону Форштадта. Вдогонку неудачнику реплики:
– Ах, язви ево, забыл блины доесть у тешши, поскакал доедать.
– Не-е, – говорит другой, – вспомнил, вчера бутылку с тестем не допили. Боитца, как бы тесть один не допил. Вот и поскакал. Вот жадный до чего, зараза!
Прискакали казаки в станицу с призами. Гудит станица. То там, то здесь слышна игра гармошек, поют разудалые оренбургские частушки-матани с присвистом, приплясом, гиканьем. Вот идут парни и молодые женатые казаки в два-три ряда, позади мельтешат казачата лет по двенадцати, подпевают, как осенние молодые петушата перед старыми петухами:
Эх, и меня солнышком не греет,
Эх, дорогая, эх, ты моя.
Ах, над головушкой туман, да!
А я за всё люблю тебя, да!
И – словно роняет гармонист ладный, всё вместивший в себя перебор. Не поют под него – присвистывают, приплясывают. Один-два парня выбегают вперёд, вертятся волчками вприсядку, в такт, взахлёб изумлённо-радостно вскрикивают:
Эх и ох, и ах, и ох, и эх, и ох, и ах!
А другие уже продолжают частушку:
Эх, меня девушки не любят,
Ах, дорогая, эх, ты моя.
Эх, приклонюсь я, бабы, к вам, да!
Я за всё люблю тебя, да!
И снова перебор с присвистом и приплясом, и другие частушки.
Останавливаются парни у того двора, где сидят девушки, начинаются танцы до глубокой ночи.
Как водой в половодье, заливаются весельем улицы станицы. Кипит она в этом веселье молодости, будоражит кровь молодым, трогает сердце, будит воспоминания у пожилых, не один раз заставляет повернуться на постели, выдохнуть-вскрикнуть: «Эх!» – перед тем, как уснуть.
Поздно вечером на улице крики: драка на кулачках, стенка на стенку полезли, конец на конец станицы.
Гришка Храмов лежал уже в постели. Услышал, сердце не выдержало: соскочил, быстро накинул полушубок, надел валенки, папаху набекрень. Помчался на улицу. Только успела жена крикнуть вдогонку:
– Куда тебя холера понесла?
– Надо, наших бьют! – огрызнулся тот.
На улице шёл «бой». Ребята того конца станицы ломили ребят этого конца. Дошли уже до Ефремова угла. Гришка ввязался в драку. Из ближних дворов выбегали казаки, на ходу застёгивая полушубки, поправляли папахи:
– Не робей, робята! Держитесь! Мы им чичас юшку[11] пустим!
Не успел Гришка смазать кого-то два-три раза и вцепиться в длинный чуб Ваське Коханову, как наскочил носом на его увесистый кулак. Искры посыпались из глаз, из носа хлестала кровь. Батюшки! – придётся выходить из «боя». Закрылся варежкой, побежал домой.
– Ой, мамоньки! – кричит, сев на постели, жена. – Ды хто же это тебя так умыл-то?
– Хто, хто… Васька Коханов, язви ево, – докладывает о подвиге храбрец.
– Вот, говорила тебе: не ходи, дык ты не послушал! Чо, наелса?
– Ды ладно тебе шипеть-то! – огрызается Гришка.
– Ды ты-то сдачи дал аль нет? – не унимается та.
–А как же! Ухватил за чуб и выдрал половину, – хвалится Гришка.
– Ну тода ишша ладно, кыль так, – успокаивается Мария и ложится досыпать.
Разделся и Гришка, умылся, посмотрел в осколок зеркала, вмазанный в печную трубу. Батюшки! Вместо носа какая-то чертовщина, похожая скорее
на чекушку от задней оси телеги. Махнул рукой, нырнул под одеяло, лег у пышного и горячего бока Марьи. Успокоился.
Последний день Масленицы. Прощёное Воскресенье. Все обиды прощаются в этот день. Ходят друг к другу прощаться.
Сашка Крыльцов зашёл к своему соседу Петру Храмову. Тот сидит на скамейке, хмурый. Под глазом «фонарь» чернее дождевой тучи.
– Эк ты, ядрена маш! Ды хто это тебе приклеил тако яблоко? – спрашивает Сашка.
– А ты чо, не помнишь рази? – отвечает Петр вопросом на вопрос и поясняет. – Кода лезли стенка на стенку, дык ты меня и угостил на здоровье.
– А ты тоже хорош! Привесил мне свой кулак-свинчатку на грудь, чуть не задохнулся, – жалуется Сашка.
– Ну ладно, чо уж топерь? Айда, давай прошшатца, – говорит хозяин дома.
Встали друг против друга, поклонились в пояс:
– Прости меня, Сашка.
– Бог простит, – отвечает тот. – И ты прости меня, Петя.
– Бог простит, - отвечает этот.
Из горницы появляется жена Петра, боком пролезла в дверь:
– А, кочеты! Прошшаетесь? – спрашивает Клавдия. И только хотела продолжить, муж перебивает:
– Ладно-ладно. Неси, чо у тебя там вкусно и горько.
Клавдия выносит бутылку самогона-первача и на закуску сдобные кокурки, крендели, орешки из теста.
Петр наливает два тонких стакана – под склень[12].
Сашка сомневается в крепости напитка, плеснул в ложку и спичку подсунул. Вспыхнуло в ложке синим пламенем.
– Да, хорош, пожалуй, – отмечает гость.
Выпили залпом, вылили, как воду в горшок. Гость закусил орешком, кокурку положил в карман:
– Спасибо. Ну, я пойду. Мне ишшо к Ваньке Азарину надо зайти, как он там?
– А ты прикладывай медный пятак к глазу-то, помогает, – прописывает верный, испытанный на себе рецепт Сашка.
Прощёный день прошёл. Гармошки прячут в сундуки, чтобы глаза не мозолили. Завтра Великий пост. Играть нельзя, грех. Пусть отдыхают гармошки до Светлого Воскресения – Пасхи.
7.
Между казаками нередки иногородние, не казаки. Их здесь называют разночинцами или просто мужиками. Они приехали из разных губерний Центральной России от малоземелья. Иногородние здесь дёшево покупают землю, занимаются сельским хозяйством. А ещё дешевле земля у киргизов, не делёная, общественная. Продаёт её любой член аульного общества кому угодно и сколько успеет продать. Нередко купленая земля оказывается запроданной другому и другим продавцам. А пользуется ею тот, кто первый вспахал. Не успевший вспахать наделяется землей в другом месте или получает деньги назад. Скандалов не бывает никогда. Да и вообще киргизы с русскими, особенно с казаками никогда не скандалят, в любом случае предпочитают согласие.
На вольных и дешёвых земельных угодьях оборотистые иногородние быстро богатеют, становятся почётными членами общества. Их уже называют по имени и отчеству, в противном случае быть ему до смерти «Артёмкой-мужиком». Казаки даже отдают дочерей в богатые иногородние семьи, правда, с большой потугой, лишь в случае какого-либо порока у невесты или при крайней её бедности.
Сколько бы лет, даже поколений ни проживал иногородний в казачьей среде, в казаки всё же он принят быть не мог, кроме как с высочайшего повеления, по исключительным причинам или заслугам, или при переселении – в приписное казачество.
Селиться же или купить рядом дом иногороднему могло разрешить казачье общество на своём общем сходе. Никакого общепринятого голосования здесь не бывает, просто закричат несколько человек, играющих ведущую роль: «Жалам принять» или «не жалам» – и всё будет кончено – остальные их поддержат, ведь они их друзья, родственники или собутыльники. Они только заявят, что за положительное постановление нужно оставить сходу столько-то вёдер водки. Она тут же доставляется, водружается на стол и тут же без зазрения совести распивается всеми, ковшом, причём начинает атаман. А писарь уж настрочил постановление, если он ещё трезвый, не успел напиться до начала схода. Для успеха выгодной сделки с обществом нужно подпоить самых горластых казаков-заводил да купить побольше водки сходу, и сделка будет узаконена. Её не отменит даже сам наказный – войсковой – атаман, имеющий власть в войске едва ли меньше самого императора.
Ни вольная земля, ни привилегии не давали богатства казакам. Уходя на службу в мирное или военное время, казак обязан был приобрести коня с седлом, шашку, пику и всё обмундирование. Это стоило более двухсот рублей, как четыре крестьянских коня или шесть коров. Если казак собирал в полк двух-трёх сыновей, он разорялся. Сбор в армию и отбывание воинской повинности до сорокапятилетнего возраста: караул у денежного ящика, у арестной камеры, конвоирование арестованных – через четыре недели в пятую – отменила только революция…
Высокие боевые качества казачьих воинских частей зависели от специального воспитания, с детства приучавшего к упражнениям, строю, службе, и от офицеров-казаков. Казаками командовали казаки. И командир, и подчинённый вместе вырастали в одной станице, как росли их отцы и деды. Лучших, самых расторопных молодых посылали в военные училища, и они становились командирами по профессии, другие оканчивали местную станичную школу и, отслуживши действительную службу, возвращались в родную станицу заниматься земледелием. Офицер знал каждого своего казака: на что годен, как будет вести себя в бою, что можно от него ожидать. Командиру верили, он был свой брат – не пошлёт на выполнение непосильной задачи, на убой. В бою казак не мог струсить, вокруг были все свои – и поддержат, и выручат: «Сам погибай, но товарища выручай», и если к нему всё же прилипла кличка «трус», тогда в станицу хоть не возвращайся. До конца жизни будет эта кличка на нём и перейдёт на его потомство. Будут показывать пальцем: «Вот идёт сын Васьки-труса или отец труса». Поэтому в бою казаки не щадили себя: «Иль грудь в крестах, или голова в кустах», стремились показать лихость, удаль. Так создавалось гармоничное единство воинской части, делавшее её непобедимой.
8.
Казак везде казак. Немало и сумасшедших выходок, сумасбродства и безрассудства видели уральские берега.
Урал в полном разливе, бушует в нём жёлтая, как глина, вода. До пяти вёрст разлился он, затопив сквозные леса, луга со старицами и озёрами. Глубина его в это время до пяти-восьми сажен, быстрина неуследимая. Страшна высота крутого берега, особенно под Благословенной. Смотришь в ледоход с этого отвесного яра на бурлящий Урал – кружится голова. В это время лучше не подходить близко к яру.
Красноярской станицы казак Касаткин заехал в Благословенную по пути – он сеял на её земле. Встретили дорогого гостя сватья, приятели и собутыльники. Не обошлось без выпивки. Вся шайка гуляк направилась к кабаку. Долго толпа пировала около кабака, где у коновязи стоял привязанный конь Касаткина, впряжённый в тарантас. За оглоблю тарантаса привязан был второй, не запряжённый.
О чём бы ни говорили казаки, они всегда сводили к разговору о конях: об их цене, лихости, красоте, выносливости и других достоинствах. Касаткин сказал, что его конь – вот этот самый, который впряжён в тарантас – не боится ничего, и в огонь, и в воду полезет. Благословенцы его поддразнили, говоря: если, мол, это правда, то нужно доказать на деле, ну вот хотя бы, спрыгнуть с этого яра в Урал, в воду. Другие пьяные приятели, моргая друг другу, сказали, что, мол, если бы этого потребовали от благословенца, то любой бы из них сделал это сейчас же, а красноярцы этого не сделают, потому что они все трусы.
Пьяного Касаткина будто пчела ужалила в самое сердце, уж больно задето было его казацкое самолюбие. Он скрипнул зубами: «А, так вашу мать!» – и, вскочив с места, как сумасшедший, впрыгнул в тарантас и погнал в карьер по улице, к Уралу.
Кричавшие и бежавшие за ним собутыльники остались далеко позади, Касаткин их не слышал. Огромной высоты круча, бурлящий под ней, внизу, мутный Урал неумолимо летят навстречу. Чуб бьёт по лицу пьяного, как будто хочет удержать хозяина, спасти животных. Касаткин ещё раз скрипнул зубами, и уже перед самым яром ещё раз хлестнул кнутом… Конь, привязанный за оглоблю, около яра встал, натянул и оборвал повод. Впряжённый же в тарантас конь не сдержал тяжёлой упряжи и по инерции вместе с тарантасом и своим хозяином грянул в пучину.
Утяжелённый железом тарантас тут же потянул коня ко дну, и их больше никто не видел. Касаткин же всплыл и был спасён. После того как он очнулся, первый его вопрос к окружившим был: не спасли ли, кроме него, бутылку водки, спрятанную под кошмой в тарантасе…
Но всякому веселью приходится знать и печали…
9.
Знойный июль 1914 года. Начали жать хлеба. Чистили землю, поливали водой, застилали соломой и ездили по ней на телегах – готовили тока для обмолота колосовых.
День жаркий, тихий. Тяжело сваливать с жнейки[13] налитой сжатый хлеб. Беспрерывно хочется пить. После жнитва ещё более тяжёлая молотьба, потом пашня на зябь, и – кончаются все полевые работы, все едут с полей до весны. Этого с нетерпением ждёт каждый, строя радужные планы. Но судьба по своему усмотрению коверкает их и диктует свои, которые никто не в состоянии изменить.
Полдень. По оренбургской дороге летит клубок пыли. Не видно того, кто поднял с дороги эту пыль. Неужели пьяный в страдную пору? Ветер хлестнул поперёк дороги – ясно стал виден всадник, скакавший во весь карьер из города к станице. Над головой его темноватый лоскут – флаг. Когда всадник приблизился, проявился и цвет флага – ветер полоскал его на солнце, и он переливался оттенками от темновато-вишнёвого до ярко-красного.
Дрогнуло у всех сердце. Красный флаг не обещал ничего, кроме слёз, смерти, сиротства. Он означал тревогу и ужас, разлуку и томительное ожидание близкого. А близкий – сын, брат или муж – находит покой навеки в чужих полях и лесах. Никто не увидит его больше никогда. Вот о чём возвещал красный флаг. Где бы ни находились в это время казаки, они бросали всё и скакали к станицам и посёлкам.
Заскакавший в станицу всадник уже передал бумагу атаману, и тот сейчас же направил по всем дорогам верховых – с тревогой, с такими же красными флагами.
Прибывшие увидели у станичного правления казака чужой станицы, он водил по двору за повод взмыленного, загоревшегося коня. Казак оказался из Форштадта – казачьей части Оренбурга, такие форштадты есть почти во всех городах на территории казачьих войск. Все наперебой спрашивали приезжего о причинах тревоги. А он в сотый раз отвечал:
– Война, ребята, война. Нам объявили войну Германия и Австрия, язви их, а за нас – Англия и Франция.
Все собрались к станичному правлению. Женский и детский плач сливался с песней, которую тянули успевшие уже подвыпить казаки. Некоторые из них ещё и дома не были, а с поля поскакали прямо к кабаку, а потом в правление – видно, чуяло сердце, что завтра продажу водки запретят.
На крыльцо правления вышел атаман с насекой – символом власти – в руке, стал читать манифест: «Божию милостию, Мы, Николай Второй – царь Польский, Великий князь Лифляндский и прочая, и прочая, и прочая, объявляем всем верным нашим подданным… что на нашу Святую Русь напали две державы…» Все слушали с поникшими головами, без фуражек…
Наутро старики, женщины и дети поехали провожать своих близких. Как всегда, в мирное ли, в военное время при отправке казаков в поезд садится не более трети личного состава – остальные пьют где-то в кабаках и ресторанах, разъехавшись по всему городу.
Эшелон уже погружен: кони, обмундирование, оружие, сундуки и сундучки с личными вещами и вообще вся материальная часть – вот уже дано отправление. Бегает низший командный состав, упрашивает служивых, которых удалось найти в ближайших трактирах, садиться в вагоны… Набрали немногим больше половины состава, потом отставшие догонят эшелон на пассажирских и скорых поездах. Это вошло в систему и как бы «узаконилось». Начальство на это махнуло рукой…
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.
Империалистическая война полыхала уже два года. Мужское население станиц заметно поредело: на улицах и в поле только женщины, старики и подростки. Сократились и посевы, кроме хозяйств, не тронутых военными требами. Годы войны радовали разве только урожаями.
Сегодня осмотр посевов. Пусть сенокос не закончен, но жать колосовые пора настала. Осмотрел все свои посевы и решил немедленно приступить к жнитву Степан Андреевич Веренцов, казак лет шестидесяти, ещё прямой, с курчавыми седыми волосами и окладистой, с сединой бородой. Он возвращался домой на тарантасе с женой Еленой Степановной, на вид ещё молодой, со следами недавней красоты в тонких чертах.
Настроение у Веренцовых приподнятое, урожай на всех их загонах хороший. Жена задаёт нескончаемые вопросы о жнитве, о сенокосе, на котором осталось много не заскирдованного сена, и о хозяйстве вообще. Степан Андреевич не успевает отвечать, иногда просто ленится и отмалчивается.
– А сколько у нас нынче всего посеяно, отец? А?
– Да я тебе уже тыщу раз говорил: кубанки русской и безостки восемнадцать десятин, да шесть овса, да три проса, да там картошки, да бахчишки… Ах, да смотри, мать, нас Гнедой не по той дороге повёз. Нам ведь надо на бахчи заехать, дынёшек нарвать, а он нас домой потащил, – Степан Андреевич потянул за одну вожжу, чтобы свернуть с дороги.
– Ну что ты, отец, не смотришь? Ведь если не заедем на бахчи, то увезём назад домой харчишки для караульщика, – укоризненно заметила Елена Степановна.
Степан Андреевич виновато улыбался, насвистывая какой-то мотив.
Долго ехали без дороги по пожелтевшим ковылам и бороздам на залежах. Борозды указывали: здесь когда-то были посевы. Из-под ног коня выскочил заяц, он сидел в своём убежище до последнего, когда Гнедому оставался до него шаг. Заяц теперь бежал, спотыкаясь, чуть не до смерти перепуганный. И Веренцовы были недовольны: кинувшийся от зайца Гнедой чуть не вытряхнул их из тарантаса…
Внезапно вылетали совы, садились невдалеке на кучу земли или старого сена, с удивлением смотрели круглыми жёлтыми глазами, с угрозой разевая рот и вертя огромной головой.
Степан Андреевич шёпотом ругал Гнедого за тряское бездорожье. Наконец, уже невдалеке от бахчей, выехали на дорогу, которая тут же стала расходиться по разным межникам среди бахчевых клеток.
Около Веренцова загона их встретил седой караульщик старик Прокофий. В молодости он пришёл из Тамбовской губернии, спасаясь от малоземелья. Кроме жены да четырёх детей, ничего не привёз. Сначала Прокофий нанимался в работники, а в летние сезоны отдавал в батраки и двух своих сынишек. Теперь живёт самостоятельно, имеет дом, принят обществом на постоянное жительство. В этом году он сеял бахчи с сельчанами и решил окарауливать их сам, как и бахчи ближних хозяев.
– Чевой-то долго ты, Степан Андреич, не едешь на свою бахчу. Я уж заждался. Дынь очень много наспело, иные переспели, развалились, – сказал вылезший из балагана и вытирающий усы и бороду Прокофий. Он вежливо поклонился Елене Степановне и подал руку Степану Андреевичу.
– Ну, до дынь тут. С покосом никак не развяжемся: копён восемьсот бросили не скирдованных. Жать хлеб скорей надо, – оправдывался Веренцов.
Как молодые, Веренцовы спрыгнули с тарантаса, привязав к колесу вожжи, не надеясь на Гнедого, – тот с тоской посматривал на дорогу к дому и косо водил глазами в сторону хозяев.
Все трое взяли мешки, пошли по бахчам собирать дыни.
– Ну, чего там про войну-то слышно, Степан Андреич? Скоро у них там мир-то будет ай нет? – спросил Прокофий.
– А пёс их знает, у них не поймёшь, – ответил тот, – то так напишут, то этак. Сейчас, говорят, какие-то еропланы стали летать да подглядывать, а то бонбу кой-когда сбросят. Вот так сукины сыны, до чего додумались. Тут уж надо бы поскорее ударить на немцев и разбить, а то ещё до чего-нибудь додумаются. А у нас на фронте-то, говорят, войсков меньше, чем в тылу. Ну какая это война – один воюет, а пятеро под забором спят. Мой Пётр пишет из Финляндии, что их до сих пор не отправляют на фронт, как бы они ни просились. Ну что они их там – солить, што ли, хотят, всю войну их там держат?
Восьмой Оренбургский казачий полк, где служил Пётр – средний сын Веренцовых, вместе с Донскими, Кубанскими и другими казачьими полками стоял в Финляндии с начала войны четырнадцатого года.
– Ну и шут с ними, пусть не отправляют, целея сыновья будут, – заметил Прокофий.
– «Целея», «целея», – горячился Веренцов, – тогда и воевать не надо, а сказать немцам: «Лезьте на спину, ладно уж, будем возить». Вильгельм-то ведь сам полез, кто его звал? – Прокофий молчал. – Вот Дмитрий мой, тоже вернулся с фронта, – продолжал Веренцов, – казаков обучает в Бердской станице. Поехал я туда к нему недавно, да только расстроился. Там такое войско, што всех палкой можно перебить: у одного бельмо на глазу, у другова одна нога короче другой, у третьева обе ноги короче, чем следоват. Крестник Егор пишет с фронта, што из присланного пополнения некоторые и ружья-то держать не умеют, а некоторые бегут с фронта домой.
– Андрей мой пишет, – шепотом говорил Прокофий, – што скоро пожалуй, война кончится… Да уж скорей бы кончалась, ну её к лешему, кому она нужна?..
Веренцов не ответил. Он не разделял такого взгляда. Он голубил в сердце надежду на полную победу над противником, сыновей своих ждал с войны офицерами или с полными бантами Георгиевских крестов… на худой конец.
Разошлись врозь. Долго собирали дыни и арбузы, носили к балагану, укладывали в тарантас.
– Ну, будет, отец, ну их, с дынями. Вот-вот затрезвонят от обедни, нас будут ждать обедать, – положила конец этому Елена Степановна, подошедшая к мужу.
– Правда. А то вон уж и Гнедой все глаза проглядел, ждёт не дождётся, – согласился тот.
Веренцовы тронулись к станице. Сзади слышались слова благодарности Прокофия за оставленную сметану, молоко, ватрушки, табак. Ещё раз оглянувшись, Степан Андреевич закричал: «Ешь больше дынь, Прокофий, теперь ездить за ними некогда будет!»
– Ну вот и слава Богу: посевы посмотрели, дыни везём, – умиротворённо заговорила Елена Степановна. – А как я рада, что на наших загонах все хлеба хорошие. Ну, как наш загон, так хлеб стоит, как умытый, лучше всех. А всё Бог дал, всё Бог…
– Вот то-то и оно-то, – отозвался Веренцов, – а ты всё, дурья голова, весной тарахтела: «Будет, отец, сеить, хватит сеить» – передразнивал жену Веренцов. – Вот теперь как намолотим тышчи четыре одной пшеницы, ды овса, ды проса, вот тогда и жени Мишку зимой. А хлеба у нас, говоришь, хорошие, то я так и знал, что будут хорошие. Это не то, што Бог дал, а надо обработать хорошо, да хорошими семенами засеить, тогда и Бог, хоть не хочет, а даст. А то, черти, не спашут как следоват, не заборонют, да и засеют мусором, потом сидят и ждут урожая, а урожай-то идёт мимо ихнева загона и не видит, што здесь чево-то посеяно. Вот так-то. Мишка у нас – тоже молодец работать, сделат всегда по-хозяйски и без лени. Што молодец, то молодец, нечего зря говорить, – закончил размышлениями вслух о младшем сыне Степан Андреевич.
Приехавшая на отдых в станицу молодая барыня, встретив Мишку с друзьями в роще, поделилась восторгом с подругой:
– Да-а… Экземпляр… Не пожалела природа ни материала, ни внимания, – и загадочно-томно улыбнулась Мишке. О его-то женитьбе и сказал Степан Андреевич жене.
Елена Степановна ухватилась за эти слова. Она давно уговаривала мужа женить сына. Доводы приводила разные: «Ну и што же, если набор в армию? Пусть берут, сноха останется в дому, опять работать есть кому будет. А разве лучше, если его где-нибудь ножом пырнут ночью на улице? Вот они нынче все с ножами стали ходить».
Степан Андреевич упирался, не соглашался: вот, мол, вдруг с Дмитрием или с Петром што-либо на фронте случится, так у тех сколько детей останется? Тех надо воспитывать, а тут ещё и Мишку женим, и от него будут дети. Пусть ходит холостой.
– Што ты, што ты, отец, Бог милостив, не допустит, ничего не случится, – волновалась Елена Степановна.
– Милостив, милостив. Я ничего не говорю, я так, к слову, от слова ничего не случится, а война своё берёт, – такими доводами отвечал Веренцов. А теперь он сдался. Помолчав, буркнул невнятно:
– Да, пожалуй, жени, шут с тобой, – и махнул рукой.
– Да, да, да, ну конешно, надо женить, знамо, женить, – подхватила весело жена. – Но вот кого сватать-то, отец, мы за него будем? Все девки мне как-то не нравютца, какие-то все вихровки.
– Ну, если здесь не нравютца, то в Нежинку езжай, может, там полутши, – советовал муж.
– Ну, везде они нончи одинаковы, – растягивая слова, говорила Веренцова. – А на сторону сватать я не поеду. Как праздник, так сноха будет ташшить Мишу туда в гости. Да погостить, скажет, пусть на недельку-другую к своим, а я опять одна по хозяйству. А нынче зимой только одних дойных коров будет пять штук, ды теляты, ды ягняты.
– Да его и женить-то сейчас не надо бы, да ведь он избегался весь, как кобель, – заворчал Степан Андреевич. – Он уже года два не ужинат; уж Митька хорош был пёс, а этот чишше того в десять раз. Кода приходит с улицы, кода спит, чёрт ево знат, зараза. Зимой скотину как следоват не уберёт, убежит через плетень или через сарай. Встанешь на двор перед утром, смотришь: лезет через плетень, как сатана.
Елена Степановна присмирела, она знала, что в этих случаях муж всегда сваливал вину «за плохое воспитание сына» на неё.
В большие праздники, когда в станице шли гулянья, Елена Степановна не спала ночей. Мишке она тогда говорила: «Миша, сыночек, я только боюсь, чтобы они в драке не оттискали тебе бока», Мишка уверял мать, что никогда этого не случится. В драках он почти не участвовал, да и пьяным напивался очень редко, берёг силы для других похождений.
Степан Андреевич продолжал:
– Вот у кума Ивана парень, у Ивана Степановича парень, у Митрия парень, – как красные девки ходят. А этот холера, как бугай обчественный, ну как бугай. Ты скажи ему, чтобы он не водил к нам Семёнова Гришку и не дружил с ним, Гришка по бабам ходит. Отец его, Семён Петрович, в воскресенье пришёл на сходку в правление, а там Михайлин сват прямо при всех и ляпнул ему: «Семён Петрович! Ради Бога, привяжи ты свово Гришку, от нево сношонку никак не спрячешь. Бежит и бежит со двора. Пошлёт её старуха вечером коров доить, а она наденет ведро на кол вверх дном и – ходу. В ворота не удасца, так через плетень убежит, вот и смотри ей взад-то. Побить её боюсь. Пожаловатца Гришке, он, идол, ишшо бока отомнёт». А ты знаешь, мать, как ему, Семёну Петровичу, стыдно было. Вот и наш Мишка шататца до света. А всё ты, всё ты, холера лупоглазая, избаловала ево: «Мой сыночек, мой чафранчик» – передразнивал жену Степан Андреевич. – Вот напечёт он нам лепёшек, этот «чафранчик»… А тода пристала: «Гармонь, отец, купи ему гармонь двухрядку». Прямо одолела, чёртова цыганка, у-у-у, черти… – в сердцах выговаривал Степан Андреевич присмиревшей от Мишкиных проделок Елене Степановне.
2.
Без радости прошло детство младшего сына Веренцовых – семья в те годы переживала трудные времена. Степан Андреевич пришёл с действительной старшим урядником, был выбран станичным атаманом и прослужил на этой должности девять лет. Семья скопилась большая, а хозяйство без рабочих рук пришло в упадок. «Если бы я не бросил атаманить, – говорил после Веренцов, – то на себя и на ребятишек пришлось бы сумки повесить. А жена всё ещё послужить да отдохнуть уговаривала».
Бросил Степан Андреевич службу атамана, но долго не мог вылезти из нужды, пока не подросли старшие дети: дочь и два сына.
С давних пор их станицу посещали летом дачники: из разных городов приезжали сюда подышать свежим степным воздухом, покупаться в Урале с его прекрасными пляжами, попить кумыс из ближайшего киргизского аула, порыбачить, поохотиться. Ежегодно все дома станицы занимали господа-дачники, а хозяева ютились в землянках во дворе – зимнем прибежище для телят и ягнят.
Дачники, чаще всего – женщины, барыни, как их здесь называют, мужья их где-то служат. Приезжали и парами, но «Бог их знает, супруги они или посторонние, – Бог им судья. Бывало, куда ни пойдёшь, – рассказывают жители, – везде видишь: господа лежат в одиночку, лежат парами, обставятся зонтиками да бутылками с кумысом. Лежат в поле, лежат в роще чуть не под каждым кустом, лежат на песке по берегу Урала. Ну везде, везде лежат. Говорят, будто бы греются да зажариваются на солнце: «выгоняют какую-то болезнь». Ково они там выгоняют, ково загоняют, леший их знает, дери их горой», – говорили жители станицы, погружённые в собственные крестьянские дела. Бывали случаи, что такую-то барыню видели с таким-то казаком, тоже будто бы подогревались.
Мишке было пять лет, когда к Веренцовым приехала барыня из Перми с тремя детьми, няней и кухаркой.
Было лето. Проснувшись рано утром, Мишка направился было на улицу, но решил зайти в землянку, где мать готовила что-то и пекла хлеб. Мишка надеялся перекусить. А есть он хотел всегда.
Войдя в землянку, он попросил у матери поесть.
– Вон там в чугунке варёная картошка, ешь, – сказала мать, не поворачивая головы. Мишка заглянул в чугун. Там был мелкий, варённый в кожуре картофель, который лень бывает чистить.
Мишка взял чугунок руками, как ухватом, и понёс на стол, испачкав руки в саже, которую сейчас же вытер о рубашку. Отломил насколько хватило сил, кусок хлеба, достал из печурки соль и принялся за еду. Он очищал картофель от кожуры, присаливал и покидывал в рот одну за другой вприкуску с хлебом. Это продолжалось долго. Елена Степановна уж забыла о Мишке, суетясь у печки. Тишина была нарушена появлением барыни на пороге землянки. Ей, как видно, не спалось на новом месте, она уже выходила на крутой берег Урала – до него было шагов сто, и, вернувшись, решила поближе познакомиться с хозяйкой-казачкой.
Она тут же заметила Мишку, чья белая, как ковыль-цветун, голова еле возвышалась над столом. Он не видел в чугуне картошку и доставал ее ощупью, привставая для этого. Опять садился и опять вставал, громко сопел и жевал с набитыми щеками, из-за чугунка крадучись смотрел на барыню, поминутно вытирая рот и нос рукавом рубахи.
– Ах, какой прекрасный, какой очаровательный мальчик! Это ваш, хозяюшка? – спросила барыня и, не дожидаясь ответа, пошла к столу. – А что он здесь кушает? – как бы сама себя спросила она. – Ах, батюшки, хозяюшка! Да вы что: такую грубую пищу да такому малюточке! Ах, Боже мой, Боже мой! – чуть не со слезами повторяла дачница.
Елена Степановна вспомнила, какая участь может ждать её картошку, и быстро пошла к столу со словами:
– Ах, чёрт бы его взял, а я и забыла, он тут, наверное, всю картошку сожрал. – Она заглянула в чугун: – Так и есть. Ах ты, обжора ты этакий! Да как ты не подавился? Вот смотри, – обратилась она к барыне, – грубу пишшу, говоришь. Да ведь я тут без малова на четверых варила, а он всё стрескал. Вот тебе «чаровательный», возьми ево за грош, язви ево», – вопила она.
Мишка, видя, что ситуация принимает опасный оборот, поспешил сбежать на улицу.
Изумлённая барыня молча покинула землянку: «Боже мой, Боже мой, каких детей людям Бог даёт, с каким аппетитом! Картофель, сухой картофель! И едва ли у него когда-нибудь желудок болит, судя по его виду. А мои-то, Боже мой! – мясных блюд не надо, сладкие не хотят, молочные на желудок действуют. Да, если накормить их сухим картофелем, да ещё таким недоброкачественным – ну и поминай, как звали…»
Елена Степановна, оставшись одна, продолжала ворчать:
– Ну, пусть только явится этот «чаровательный», я ему накладу палкой. Те были хороши, хоть кадык завязывай тряпкой, жрали – не наготовишься, а этот дак ещё жаднее всех…
Кухарку свою барыня застала ожидающей распоряжений к завтраку. Она рассказала о том, что минуту назад видела и слышала, обрисовала Мишку, назвала его необычайным существом, выросшим, как цветок-тюльпан на этой грубой ковыльной почве. Решив немедленно посмотреть этот цветок, кухарка предложила барыне попросить хозяйку, чтобы та отпускала мальчика к господскому столу – может, под влиянием Мишкиного аппетита и дети будут хорошо кушать. Барыня похвалила кухарку за находчивость. И делегация направилась к землянке.
Елену Степановну они застали на том же месте и за тем же делом. После вступительной речи барыни с доказательствами необходимости и пользы Мишкиного участия в господских обедах приступили к главному: просьбе, где по адресу хозяйки и её мужа не скупились на обещания благодарности в случае согласия. Наконец, кухарка сказала:
– Ну поймите же, хозяюшка, ведь с вашим мальчиком ничего не случится, у нас его никто не обидит, за это вы уж, пожалуйста не беспокойтесь.
Елена Степановна давно бы прервала квартирантов и не дала бы так себя упрашивать, но она долго не могла понять, что от неё хотят господа. Когда те кончили, она, рассмеявшись, сказала, что была бы очень рада, если бы господа взяли Мишку, этого обжору, себе совсем. Причём остерегла, что Мишка может обожрать их, разорить.
Замахав руками на это предостережение, женщины, до безумия радуясь, выпорхнули из землянки. И начались приготовления к завтраку. Елена Степановна между тем недоумевала: «Ну зачем им надо, чтобы ихние дети много ели? Ходят, ишшут помошников пожрать. Гы-ы, чудные-то… Тут впору кадыки ребятишкам завязывать, а они бегают по дворам, ишшут помошников обедать, ничо в толк не возьму».
Когда в господской половине завтрак был готов, приглашать к столу Мишку пошла вся семья: барыня, няня, кухарка и трое детей. Замыкала шествие кошка Мурка, привезённая из Перми, белая, как снег, и мохнатая, как ёлочный Дед-Мороз. В тот момент, когда весь отряд был за воротами, Мишка сидел на дороге посреди улицы, вытянув ноги, и нагребал пыль в подол рубашки. Барыня сразу узнала его и, как будто найдя утерянную драгоценность, закричала: «Вот он, вот он! Этот самый!» Мишку стали звать на несколько голосов: «Мальчик, мальчик, иди сюда!». Мишка не сразу понял, что зовут его. Оглянулся за спину – нет ли кого за ним, там никого не было. Тогда только Мишка решил, что позывные относятся к нему. В беспорядке на этот раз высыпал пыль из подола, вытер о рубашку пыльные ручонки, заложил их за спину и как взрослый зашагал к воротам, где его ожидали семь душ.
– Как тебя зовут, мальчик? – обратилась к нему барыня.
– Мишкой. А што? – ответил и сразу спросил Михаил Степанович, не убирая рук из-за спины.
– Мишенька, нам всем страшно хотелось бы, чтобы ты всегда, всегда участвовал с нами при кушании в завтрак, в обед и ужин. Ты сейчас кушать хочешь?
Первых слов Мишка не понял, но последние ему очень понравились:
– Хочу! – живо ответил Мишка и бойко посмотрел на всех. Все расхохотались.
Впервые Мишка слышал подобное. Он привык к более лаконичному: «Иди обедать, иди жрать, ждать не будем». И это было понятно и достаточно.
Старшая дочь барыни Юля перечислила Мишке названия блюд на завтрак, но ни об одном из них Мишка никогда не слышал. Он прошёл вперёд и направился в барские покои, сопровождаемый всеми. Он шагал и недоверчиво озирался по сторонам – не подвох ли какой.
На кухне их ждал стол с приготовленными тарелками, мисками и светлыми, как зеркало, металлическими ложками. Детей рассадили за столом. Мишку поместили между шестилетним Бориком и восьмилетней Кларой. Мишкин одногодок Борик ростом выше Мишки, но вдвое тоньше и легче. На грудь им повесили белые, как снег, салфетки. Повесили и Мишке на потерявшую цвет от грязи рубашонку. Он сидел с опущенными по швам руками и робко рассматривал свою салфетку. Его белая голова еле виднелась из-за стола. К Мишкиному удивлению, перед каждым поставили отдельную тарелку и положили коварную, горячую, как огонь, во время еды ложку.
Мишка знал обеды лишь из одной общей большой чашки, всей семьёй, деревянными ложками, поэтому всё, что сейчас происходило за столом, захватило его так, что время для него остановилось. Он поворачивал голову в сторону каждого, кто приносил что-либо на стол. А когда увидел в руках кухарки желе, не выдержал, спросил:
– А это што у тебя, сладкий кисель, што ли?
– Да, да, да, именно кисель, – скороговоркой ответила та.
– Ево тоже есь будем, штоль? А? – поинтересовался Мишка.
– Разумеется, кушать, а куда же его девать? – улыбалась барыня.
– Гы, я думал, гостям наварили. У нас только гостям варят, – сказал Мишка, шмыгнув носом и подвинув тарелку с чем-то к своему краю.
– Да, да, гостям мы наварили. Но ведь ты-то у нас гость? Ну, вот тебя и будем угощать, – успокоила кухарка.
Мишка недоверчиво улыбался и облизывал губы. Юля, тринадцатилетняя дочь барыни, целовала его в голову, в лоб, в щёки. В ответ Мишка чесал места поцелуев и вертел головой.
Положили котлеты с подливом – обычно завтрак был скромнее, но сегодня походил на обед – няня предположила, что дети, проголодавшиеся в дороге, будут кушать больше обычного.
Как только Мишкину тарелку наполнили, он, не дожидаясь других, тотчас взял в обе руки по котлетке и быстро съел, а подлив выпил через край, прежде чем ему успели сказать: «Мишенька, ты с хлебом кушай, а то желудок испортишь». После этого отвернул салфетку и тщательно вытер о рубашку руки и губы. Затем подвинул к себе тарелку с белым хлебом и стал есть хлеб.
Никогда этим женщинам не приходилось видеть подобное и так смеяться. Весь обед они забавлялись своей «игрушкой», которая невозмутимо отвечала на все вопросы с детской простотой, а главное, деревенскими выражениями. Барчуки, недоумевая, смотрели на него и тоже смеялись, особенно Юля.
После завтрака дети вышли из-за стола, с них стали снимать салфетки. Мишкины оказались более грязной изнутри – от рубашки, испачканной в пыли, в саже, в дегте и ещё в чём-то, несмотря на то, что вчера он её сам «стирал» в Урале, перемазав в болотной грязи в роще, куда ходил с друзьями за грачатами.
Когда сняли салфетки, Мишка отряхнул и разгладил рубашку на животе, как бы опасаясь: не испачкалась ли она о салфетку, и направился к выходу, но Юля его остановила:
– У нас есть хорошие игрушки, мы пойдём все вместе играть на улицу. А сейчас нужно поблагодарить маму, няню и тётю.
Слова «поблагодарить» Мишка не понял, но когда дети стали подходить к женщинам, подавать руки и говорить «Спасибо», Мишка последовал их примеру – это ему было известно.
Совсем забыл Мишка о том, что он дома. Ему казалось, он попал в какой-то неведомый мир. Он забыл всё, что помнил о доме вообще. Проходя мимо своей землянки по двору, он постарался поскорее прошмыгнуть, чтобы не быть снова втянутым в её безрадостную бездну. Больше всего он боялся, чтобы не вышла мать и не отругала за то, что он надоедает господам, да ещё и объедает их. А может, мать не забыла ещё картошку?
Принесённые игрушки совсем ошеломили его. Таких красивых мячей Мишка не видел никогда в жизни, даже у барчат, а уж у друзей – где там иметь такие сокровища! Вот уж теперь он наиграется в мяч, сколько захочет. А то свалял из коровьей шерсти, что это за мяч! Слёзы одни, а не мяч! Намокнет – суши его целый день, а потом шмякнешь об стену, а из него вода во все стороны и не отпрыгивает. Мученье одно.
Без Мишки теперь даже не садились за стол – дети заявляли: мол, у них плохой аппетит, когда нет Мишеньки. Когда наставало время обеда, а Мишка отсутствовал по каким-нибудь «неотложным делам», то приходилось ждать его или разыскивать, ничего не поделаешь.
Иногда заходила Елена Степановна и ласково у квартирантов спрашивала, не надоел ли им Мишка да не объел ли он их, а то, мол, и прогнать неудобно. Тогда Юля бросалась ей на шею и просила не говорить этого. Барыня же подтверждала, что она очень довольна прекрасным настроением своих детей в обществе хозяйского ребёнка.
3.
В середине срока господского отдыха приезжал на несколько дней сам барин, здоровый полковник лет сорока. Барин сказал, что Мишенька – необыкновенный мальчик с интересным, многообещающим будущим. Лаская Мишку, приговаривал: «Богатырь ты будешь с виду и казак душой…»
Барин уехал, и побежали, как прежде, весёлые, заполненные играми, купанием и обеденными церемониями дни.
Но всему бывает конец. Сизокрылым голубем пролетела Мишкин сплошная масленица.
Квартиранты, а особенно Юля стали просить Елену Степановну отпустить с ними Мишку в Пермь. Елена Степановна не соглашалась:
– Она бы шут с ним, наплевать, пускай бы ехал, у нас их, вы сами знаете, кроме него семеро, да и привезти то вы бы ево привезли весной, куда он к шуту денется, с хлеба долой, но ведь вы с ним замучаетесь. Мишка, ведь это такой человек – ево вон в город с собой возьмёшь, дак и то он злу тоску нагонит: домой да всё, домой хочу. А с вами вон только до обрывов доедет и начнёт кричать, как поросёнок под ножом. – Елена Степановна при водила убедительные примеры. – У-у-у, и не говори, Юлечка, и не проси, милая, проклянёте вы и нас, и себя.
Благодатный город Пермь представлялся Мишке не таким, как Оренбург со своими огромными, мрачными домами и душными, пыльными, шумными улицами, от которых в сон клонит и домой хочется. А в Перми и воду-то берут не из Урала, а из какого-то крючка, согнутого из железа, просто на улице. Тоже плохо, пойди-ка, искупайся там, попробуй. Нет, Пермь-то, наверное, хорошая станица. Роща большая, больше нашей, грачат там, должно быть, полно, лови, сколько хочешь. Подсолнышков много растёт, а арбузов и дынь – сколько влезет. В ярах стрижиных гнёзд – видимо-невидимо, а рядом висит солодковый корень в руку толщиной, дёргай знай. Мишка согласен ехать, но мать – ни в какую. Придётся остаться, нельзя же мать обижать, чего доброго, любить не будет. Мало ли што хочет Юля! Она вон говорит, што могут увезти меня потихоньку от матери, эх, какие хитрые, а рази так можно? Вот если бы они и маму взяли, вот это бы да!
За несколько дней до отъезда поехали в город фотографироваться с Мишкой, он был заснят в разных позах и гримасах. И отдельно с Юлей. До этого Мишка свою физиономию, кроме как в ведре с водой да в начищенном самоваре нигде не видел, даже в зеркале. Зеркало у Веренцовых было старое, почерневшее, прибитое высоко, чтобы не достали дети. На прощанье Мишке подарили столько всяких игрушек, что их могло бы хватить до старости.
В день отъезда все уже до восхода были на ногах. Юля в эту ночь не спала ни минуты. Она несколько раз подходила к сеням землянки, где спал с матерью Мишка, совершенно равнодушный к завтрашнему событию. Елена Степановна не могла знать страданий Юли, иначе бы она отступилась от своего решения, отпустила бы Мишку с господами, а там – как знать? Может быть, и остался бы в Перми навсегда. Юля то ходила по двору, то сидела на крыльце и ждала, не выйдет ли Мишка; ей хотелось в последний раз погладить его по белой пушистой голове… Уже перед утром, когда Юля всё ещё сидела с распухшими от бессонницы глазами на своём крыльце, на вопрос няни, давно ли она встала, ответила: «Только сейчас». Что-то подсказывало ей, что правду говорить нельзя.
Никакие уговоры на Юлю не действовали, она рыдала до самого Оренбурга. С ней плакали и остальные дети, им тоже не хотелось расставаться с Мишкой. На одной из станций как будто уже успокоившаяся и смотревшая в окно Юля вдруг не своим голосом закричала: «Мишенька! Вон Мишенька!» – и бросилась к окну. Поезд, набирая скорость, отходил от перрона. Девочку еле удержали и успокоили. Позднее Юля рассказывала, что вне всякого сомнения она видела на перроне Мишеньку…
И этому должен был прийти конец. Под новыми впечатлениями Юля постепенно забывала Мишку, но всё же дала себе слово, что хоть через десять лет, а увидится с ним, чтобы больше не расставаться. Какой любовью любила она Мишку – трудно понять.
Впал в тоску после отъезда квартирантов и Мишка. По нескольку раз на дню заходил он в дом, осматривал все уголки: не окажется ли там что-нибудь, напоминающее о дачниках, и не найдя ничего, выходил со слезами. Иногда со двора он отчётливо слышал голоса Юли и барчуков в доме, бросался туда, но кроме жуткой тишины, там никого не было.
4.
Мишка перестал есть, с ним случилась горячка. Болезнь в таких случаях – лучшее лекарство. С квартирантами Мишке было не до друзей, ведь столько игрушек у барчат! А теперь, пожалуйста, можно сходить. Пришли друзья, и через несколько минут их ватага была уже в роще. Со всех сторон окружала их шелестящая листва, пронизанная золотистыми снопами солнечных лучей; густые кусты шиповника с ярко тлеющими плодами, заросли жимолости, опутанной цепким хмелем. Порхали, щебетали на знакомые голоса птицы.
Мишка забежал на то место, где больше месяца назад выпустил в кусты нескольких грачат из своего садка. Птенцы, очевидно, уже летали вместе со взрослыми, вон сколько их кружилось над головой, роняя белые капли.
Под кустами колючего шиповника и жимолости женщины выбирали ежевику, она росла здесь в изобилии, крупная, иссиня-чёрная, такая сладкая! Только пробивающаяся кое-где жёлтая листва выдавала приближение осени. На бахчевых полосах у рощи над Уралом звали к себе дыни, арбузы, тыквы, подсолнухи с тяжёлыми, свисающими, высматривающими что-то на земле головами. Ласкали глаз светло-жёлтые и буро-зеленоватые дыни, некоторые, не снятые вовремя, растрескались под жарким солнцем, источают аромат, стоит только взять в руки… А белые и полосатые тонкокожие арбузы! воткнёшь в него конец ножа – арбуз тут же раскалывается пополам, мякоть в нём красная, даже с каким-то розоватым оттенком, посыпанная, как бисером, мелкими каплями влаги, а вкус, а аромат… Боже!..
Мишку не занимало сейчас всё это. Он неотступно думал об уехавших, ему казалось, что, пока он здесь, они вернулись в станицу. Он опрометью кинулся домой.
После этого Мишка пролежал ещё несколько дней. В полубреду видел перед собой Клару, пытающуюся побороть его, Борика – с худенькими ручонками. Иногда, договорившись с няней съесть полагающееся ему не за столом, а на улице, Борик, подав Мишке знак, убегал с едой за соседний угол и ожидал друга. Дорогу за угол Мишка знал хорошо, там он с удовольствием «выручал Борика из беды».
Видел Мишка перед собой и милую, какую-то близкую, родную Юлю, никогда без улыбки не смотревшую на Мишку, в каком бы настроении ни была. Иногда, подбежав к ней, он обнимал её ноги. Он помнит постоянные слова Юли: «Мамочка! Да посмотрите же сюда, убедитесь, что Миша бесподобно забавный!» А иногда Юля с тем же бежала к Елене Степановне, целуя её, упрашивала пойти посмотреть на этого проказника, но Елена Степановна, поцеловав барышню, как дочь, отвечала:
– Боже мой, а то я ево не знаю. Он мне по ночам надоел, как лихоманка, все бока протолкал ногами, возьмите ево хоть на одну ночь, ради Бога. – Но Мишка не хотел ложиться ни с кем, кроме матери, несмотря на то, что у неё на постели кусали блохи и клопы.
Но вот и пожелтели листья на деревьях. Сильные осенние ветры сметали их в кучки, расбрасывали и, покрутив вокруг какого-то невидимого центра, складывали на другом месте. Совсем обнажились деревья, сквозь них ясно просматривалась даль. Горячие летом песчаные пляжи опустели и похолодали. Пусто и жутко в роще, не слышно в ней ни одного голоса. Там, где были тяжёлые головы подсолнухов, теперь чёрное поле, утыканное толстыми, короткими будильями. На бахчах темнели брошенные, убитые заморозками недозревшие дыни, арбузы, тыквы. Утки уже не плавали по реке, а собирались стаями по берегам – с поджатыми ногами плотно припав к песку, поминутно жалобно и громко кричали, как будто звали улетевшее лето.
По ночам в небе слышны были на разные голоса крики пролетающих птиц. Блестящая лента Урала хорошо видна им с высоты, она указывает путь с севера на юг – к морю на зимние квартиры. Иногда перелётные птицы останавливались на дневную кормёжку, стаями садились на воды Урала, озёр, стариц. Садились на просторные поля, собирали по жнивью оставшиеся колосья и зерно.
В эту осень Мишке казалось, что лето увезли с собой барчата, и оно сейчас с ними там где-то.
5.
Вскоре пошёл снег. Суровая настала зима. Ежедневно дули морозные ветры, воздвигая огромные снежные дюны. Как в спиртной бочке, захватывало дух. По ночам трескались оконные стекла. Даже в полдень не грело яркое холодное солнце.
Степан Андреевич собрался на ближайшую, в одной версте, мельницу смолоть пшеницы на муку. Мишка стал просить взять его с собой. Он знал, что на мельнице очень интересно: всё крутится, стучит, всюду что-нибудь сыплется. Но разве отец может понять всю силу и серьёзность Мишкиного желания. Он наотрез отказался взять, пугая трескучим морозом и вьюгой. Мишка обращался уже и к матери, чтобы та попросила отца, но она тоже отказалась. Она в этих случаях всегда, как назло, держит сторону отца. Да они, видимо, договорились как-нибудь оставить Мишку дома.
Тогда Мишка решил действовать самостоятельно: надел пальтишко и пошёл на улицу караулить. Когда отец выедет, Мишка побежит за ним вслед до самой мельницы на расстоянии, чтобы не увидел отец и не вернул назад кнутом.
Степан Андреевич поехал из ворот не оглядываясь, только потеплее закрылся воротником тулупа от ветра. Мишка побежал сзади.
На выходе из станицы перед последними домами сильный морозный порыв хлестнул Мишке в лицо и сбил с ног. Он встал и побежал снова. Последние дома остались позади. Сани отца скрылись в пурге. Ветер дул в лицо. Мишка напрягал усилия. Давно исчез погнавший рысью отец. Морозный ветер, как спиртом, заливал нос, рот и уши, сбивая с дороги. Наконец ветер, как из гигантского насоса, резанул снегом в лицо. Мишка задохнулся, упал и потерял сознание. Метель в бешеной пляске закружилась над ним, наметая сугроб.
В последний момент Мишка услышал какой-то голос далеко впереди и испугался, что это отец заметил его. Как оказалось, это был голос казака – родственника Веренцовых. Он возвращался с мельницы и, когда поровнялся со Степаном Андреевичем, громко ответил на какой-то его вопрос и поехал рысью.
Вдруг конь его остановился и, фыркнув, бросился в сторону.
Казак соскочил с саней. Он решил, что Веренцов потерял какую-то одежду, и поддел её кнутовищем. Одежда не поддавалась, пришлось взять руками и поднять…
Казак прискакал домой, бросил коня у ворот, вбежал в избу с Мишкой в руках и закричал растерявшейся от испуга жене: «Скорей давай отогревать, кажется, до смерти замерз Веренцов Мишенька».
Что стало бы с Юлей, если бы она видела сейчас Мишку? Она сошла бы с ума. Юля в этот момент сидела на мягком диване и рассматривала Мишку на фотографии, привезённой летом из-под Оренбурга. Сегодня ночью она так странно видела его во сне. Мишка стоял на зелёном поле, весело смеялся, а на голове у него был большой букет цветов, корни которых свесились до колен и крепко опутали ноги. «Это плохое предзнаменование», – сказала мать Юле.
Положенный на лавку, Мишка еле дышал. Он был без сознания. белыми, как снег, и жёсткими, как дерево, оказались пальцы на руках, щёки и уши. Всё это стали оттирать снегом. Осмотрели ступни ног, сняв валенки – ноги были не поморожены, но не догадались посмотреть колени, поражённые больше всего. В тёплой комнате они оттаяли сами, с них каплями стекала вода.
Через час Мишка пришёл в чувство и спросил:
– А где же Юля? Как какая Юля? Она вот сейчас тут стояла.
Ещё через два часа Мишку отвезли домой.
Елена Степановна благодарила родственника и его жену, заочно ругала Степана Андреевича и Мишку. Тем дело и кончилось. Мало ли чего бывает.
Степану Андреевичу рассказали об этом уже без всякой подчеркнутости и интереса. Так и прошло всё, только Мишка после этого лет пять жаловался на нестерпимую боль в коленках, но прошло и это. Да только ли это… Проходила суровая зима, наступало жаркое безоблачное лето. Не перечислить Мишке, сколько раз приходилось ему тонуть в Урале, прежде чем он научился плавать. Несколько раз сам вылезал из глубины, много раз вытаскивали за уши и за ноги купальщики постарше.
Но однажды Мишка чуть было не ушёл навсегда «бурок ловить». Спасла его, совсем скрывшегося под водой, какая-то девица. Не придавая этому большого значения, она вытащила Мишку на берег, шлепнула по мягкому месту, обругала; заметив его взгляд, закрыла ладонями ниже пояса и снова побежала в воду, крикнув на бегу:
– Чей-то, холера, ведь чуть совсем не утонул, собачий сын. – И тут же забыла о нём.
Мишка полежал на берегу, несколько раз его стошнило, потом он, как пьяный, поплёлся домой, где ничего о случившемся не сказал, чтобы не наказали и не запретили ходить на Урал.
6.
И опять наступила зима… По слёзной просьбе Мишки старшие его сестрёнки рано научили его читать и писать, лишь бы приняли его поскорее в школу. Чтобы не оставался он дома и не приходилось бы сестрёнкам вздыхать, сидя в школе: «Ой, ну что же опять там сегодня будет с нашими куклами? Опять там остался этот Мишка, опять он все куклы разорит, собачёнок».
Но Мишку по молодости в школу не принимали, и он отсиживался дома. Как ни следила Елена Степановна по просьбе дочерей за Мишкой, чтобы он не громил их кукол, не оставлял их «в чём мать родила», уследить за ним было трудно. Куклы были на печке, где поселялся и Мишка. Прогнать его оттуда зимой некуда, на улице холодно. Мишка посматривал на кукол, поставленных спиной к стене с растопыренными руками. Перед ними тщательно сложены лоскутики всяких цветов, разные пузырьки и бутылочки. Чего там только нет, сердце замирает! А как хочется всё посмотреть да поиграть! Но мать, как на грех, долго не уходит. Время тянется вечностью. Мишка, посапывая, то ляжет, то сядет неподалёку от кукол, то подвинется, то отодвинется. Наконец мать ушла. Действовать нужно скорее, иначе вернётся мать и придётся с куклами распрощаться до завтра… Елена Степановна вскоре вернулась. Мишка сидел на том же месте, никаких подозрений.
К приходу девочек Мишка залезает под нары у печки. Он знает, что сёстры сейчас поднимут шум, но вот как старшие отнесутся к их горю – разгрому кукольной семьи? Если пошумят да перестанут, можно будет вылезти из-под нар, а если будет угрожать опасность, может быть, придётся посидеть до ночи, ничего не поделаешь.
– А где Мишка? – с порога спрашивают мать явившиеся из школы девочки.
– А шут ево знат. Убежал куда-то, – отвечает та.
– Ну, если удрал, значит, опять нашкодил, – совещаются между собой девчонки. Повесив сумки на гвоздь, быстро вскакивают одна за другой на печку – проверять своё несчастное хозяйство.
– Ай-ай-ай! Батюшки! Мама, мама, да что же ты смотрела? Да ведь что он здесь настряпал, востроглазый, – обнаруживают сестрёнки опустошение в кукольных рядах; крик, плач на разные голоса, угрозы по адресу опустошителя.
– Вот у этой куклы юбка была завязана на поясе, а он завязал на шее!
– А у моей, у моей-то руку завернул за спину, и теперь она не держится, мотается.
– А у меня вот здесь был пузырёк, а в нём вода, будто духи, а он, шельмец, воду-то вылил, а туда посадил муху да заткнул…
– Лоскутики, лоскутики самые красивые выбрал и не знаем, куда девал. Да ещё много тут беды натворил, да разве сразу увидишь… А-я-яй!
Мишка тоже чуть не подал голос из-под нар, мол, зря кричите: лоскутики-то все целы и заткнуты в валенок матери, но спохватился: время сейчас самое жаркое, да и вообще-то, пожалуй, дело дрянь. Как видно, сегодня придётся сидеть долго, перестарался с куклами-то.
Скоро обед, но тут, видно, не до обеда. Эх, и злые они сейчас, думает проказник. Но боялся Мишка напрасно, его никогда не наказывали, а проделки его вызывали у старших только смех.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1.
С дынями и арбузами Веренцовы подъезжали к станице. Степан Андреевич ругал про себя Мишку – шёл парню уже восемнадцатый год, сравнивал со старшими, Дмитрием, которого Мишка перещеголял своими проделками.
«Вот Пётр, тот совсем другой, – думал Степан Андреевич, – тот не такой, как эти заразы. Он к бабам совсем не касатца, а и мне-то никогда слова поперёк не скажет. Оно хоть и Мишка-то смирный, нечего зря говорить. А уж Митрий-то – ох-хо-хо. Я уж, вить, прямо побаиваюсь маненько, язви ево. Вон какой клок бороды выдернул, да в коленку пнул тода, на Петров день в пьяном виде, – Степан Андреевич машинально потрогал левую сторону бороды. – Ну, это опять бы ладно, но вот по бабам оне бегают, язьви их, вот ето мне больше всего не нравитца. Ну, какую сласть они находят в этих бабах, а? Тьфу, заразы! Подь они все к чёрту, язви их… А всё-таки мне их жалко, война сейчас, могут погибнуть едыкие молодцы».
С этими мыслями Веренцов подъехал к дому. Елена Степановна тоже была в задумчивости. У ворот их встретил Мишка.
– Вот, Миша, я тебе самую сладкую дыню отложила, – сказала мать.
– Ну, вот и спасибо, а я её Мите подарю, – сказал сын.
– Как Мите? Разве он приехал? – спросил отец.
– Да, приехал. Окончил курс, скоро уезжает в училище. Все учебники привёз мне и велит выучить их к весне.
Дмитрий на действительной служил вахмистром. Когда началась война, не успел доехать до фронта – вернули в тыл: в должности кадрового инструктора обучать мобилизованных казаков. Войсковое начальство предложило ему, кроме того, окончить курс общеобразовательного ценза вольноопределяющегося[14], чтобы поступить в военное училище.
Брата Мишку Дмитрий любил – как и он, тот был развит, красив. Сельскую школу Мишка окончил с похвальным листом, любил читать, хорошо писал – грамота Мишке давалась легко, здесь он был на голову выше своих одногодков. Дмитрий решил тянуть брата за собой, довести до офицера, пользуясь военным временем.
Услыхав о приезде сына, родители послали за ним и его женой. Дмитрий пришёл сейчас же.
Отец шёл с заднего двора, когда Дмитрий показался в воротах. Посреди двора они встретились, обнялись и крепко расцеловались, хотя недавно виделись.
Степан Андреевич увидел у сына на погоне кроме вахмистрской нашивки пёструю по краю обшивку из белого, жёлтого и чёрного кантов, что означало образование вольноопределяющегося.
Дмитрий был в новом, хорошо пригнанном мундире, касторовых брюках с голубыми лампасами, фуражке с голубым околышем и кантом, с белой фарфоровой кокардой. Всё шло ему, цветущему в свои тридцать лет.
Шумно беседуя, отец и сын шли к столу. Елена Степановна выбежала навстречу. Степан Андреевич остановил Дмитрия, отошёл от него шага на два и, обойдя вокруг с приложенной ко лбу рукой, с жаром сказал:
– Мать, радуйся детушкой, радуйся красавцем. Как знать, может быть, и не долго придётся радоваться: вон как полыхает война, в её хайло не мало надо таких молодцов, –– и слёзы радости и тёмного предчувствия увидел Дмитрий на глазах отца.
Мать вытирала фартуком непрошеные слёзы, шептала:
– Бог милостив, он не допустит… – она крепко поцеловала сына.
Дмитрий самодовольно улыбался, не тронутый словами отца о войне. Он сунул в руку матери какой-то гостинец и смеясь, сказал громко:
– Только тяте не показывай, а то отнимет.
– Ну нет, я это не люблю. Мне бы побольше на столе да в стеклянной посуде, – шутил Веренцов.
Радостный круг семьи Веренцовых зашумел во дворе, в тени садика за сытным столом. Июльское солнце благодатным светом щедро заливало двор. Как жар, горела на солнце кокарда фуражки, висящей на гвозде, изумрудами переливался галун на голубом фоне погона. Переполняющую гордость вселял в родных будущий казачий офицер Дмитрий Веренцов. Всё в эти дни радовало Степана Андреевича и Елену Степановну: и крепкое их хозяйство, и урожай, и будущее детей.
По случаю приезда Дмитрия вскоре собрались гости, и всё закрутилось колесом. А потом гости и хозяева толпой вышли со двора Веренцовых и направились по улице.
Как хорошо пройти со своими по родной станице! Снова увидеть милый с детства высокий берег Урала, ровные улицы с уютными одноэтажными домами, вознёсшимися над рекой. За Уралом глаз отдыхает на родной панораме лесов и лугов, за которыми в туманной дымке, в мареве дрожит размытый расстоянием Оренбург.
Урал с золотыми и мягкими, как пена, песками по берегам, горячими в полдневный зной пляжами уносит зеркальные воды в неведомую, манящую даль, к просторам Каспия. Справа вспыхивает на солнце крест храма соседней станицы Нежинской, невидимой отсюда из-за лесов.
Гудит солнце в воскресный день, охваченная лугами и рекой внизу – с одной стороны и степью – с другой. Выговаривает что-то гармошка на улице, ей вторят другие на Урале и в роще. Гремят многоголосые песни старших и разухабистые частушки молодых. Пёстрым шумом жизни уходит станица далеко за пределы дня в глубокую ночь. С озёр и стариц доносятся голоса перекликающихся лягушек. Слух улавливает шелест листьев. Как масло, горит истома в молодой крови…
2.
Совсем стемнело. Мишка стоит за углом и ждёт: толпа с улицы давно уже топчется против дома, где для него открыто окно. Наконец проходят. Мишка чуть не бегом поравнялся с условленным окном, в нём тёмно, но за ним угадывается фигура.
– Миша, это вы? – слышит он шёпот и видит поданные ему руки.
Едва коснувшись мягких рук, Мишка вскакивает в окно.
Это та самая молоденькая барыня из Калуги, Галя, которая неделю назад улыбалась Мишке в роще. В тот день она невольно долго наблюдала за ним, но он, не замечая, весело балагурил с товарищами. На обратном пути Галя просила свою хозяйку, сопровождающую её в прогулках, передать Мишке записку. Та наотрез отказалась: тогда, мол, Мишкины барышни, а главная из них Надёжка, сживут её со света. Причина была другая, хозяйка прочила свою родственницу в невесты Мишке.
Несколько раз Галя проходила мимо дома Веренцовых, но Мишка, видно, был в поле. Невыносимо ждать до воскресенья, тянулся долгий, скучный четверг. Приехали хозяева с лугового сенокоса, сказали, там прошёл сильный дождь, едва ли он даст работать, и завтра все едут домой.
Галя снова быстро собралась, взяла зонтик, ридикюль и заспешила на берег Урала. Она долго ходила по крутому яру, поглядывая на дом и ворота Веренцовых. На душе было неспокойно, каждый звук вызывал острую тревогу, приходилось на него оглядываться…
Вдруг ворота Веренцовых стукнули и открылись, полотно калитки ушло внутрь, во двор, но никто не появился. Но вот со двора выбежали один за другим шесть коней, а седьмой красивый гнедой, с всадником. Это был Мишка. Вертясь волчком на неосёдланном коне, он с длинным кнутом в руке налетел на сбившихся в кучу коней, завернул их и по широкому спуску под гору в карьер погнал в рощу. На молодую женщину он не обратил никакого внимания.
Галю кольнуло в сердце. Она растерялась, будто её захлестнуло волной, и она вот-вот утонет. Справившись с собой, она поспешила в рощу. Она тяжело дышала, украдкой смотрела по сторонам, ей казалось, что все знают, куда и зачем она спешит. И какая-то радость била в грудь, просилась наружу, как будто только что спаслась от гибели.
Но гибель только начиналась…
Прогнав коней в глубину леса, Мишка с уздечкой и кнутом на плече ходил по кустам, рвал ежевику и ел.
Увидев его, Галя подалась за куст. Стройный, тёмно-русый, в забранной в брюки белой рубашке с расстёгнутым воротом, в котором странно белела, споря с загаром лица и шеи, грудь, Мишка ошеломил её. Она поймала себя на желании броситься на него, как кошка на мышь, и не выпускать из объятий… Он действительно был хорош.
Вот Мишка завернул за куст и – увидел её, раскрасневшуюся от стыда и волнения, со свёрнутым цветным зонтиком и ридикюлем в руках, в белом полотняном отглаженном платье и белой панаме, цветных тапочках на босу ногу. Мишка на мгновение растерялся и хотел уже обойти женщину, но она, улыбаясь и путаясь в словах, заговорила с ним:
– Миша… Извините, вы не испугались меня?
Мишка отрицательно покачал головой: «Откуда она знает имя?»
– Я давно хотела… вас видеть и поговорить с вами, – тихо говорила барышня и смотрела мимо него. – Вообще, мне хотелось бы… быть с вами знакомой… Я впервые вижу казаков, о которых так много рассказывал папа… Мне хочется расспросить вас, как живут казаки, каков их образ жизни, их нравы и прочее… К тому же здесь невыносимо скучно, я не знаю, куда себя девать…
Странная незнакомка запнулась. Пунцовая краска залила нежное, не тронутое загаром лицо. Мишка с интересом рассматривал её с головы до ног. Оба молчали. Ей казалось, что она сейчас провалится или сгорит со стыда.
– Да-а-а, задали вы мне задачу, барыня, – почесав лоб, проговорил Мишка.
– Для вас я не барыня, а только Галя, – кокетливо улыбнулась она.
Мишка бессознательно сделал шаг вперёд, оказавшись рядом с ней, в облачке её духов. Галя тяжело дышала, как птица в сетях. Она казалась Мишке жалкой, страдающей, разбитой. Она смотрела в землю. Как-то машинально Мишка убрал с её платья зелёный лист, упавший на грудь. От его жеста Галя вздрогнула и широко раскрытыми, недружелюбными глазами посмотрела на Мишку, в глазах которого не было ни насмешки, ни нахальства, кроме безразличного застенчивого простодушия. Уловив это, Галя улыбнулась и тем удержала Мишку, совсем уж было готового сбежать.
– Галя, нас здесь могут увидеть, – борясь с собой, сказал Мишка. – Здесь рвут ягоды наши соседи, – соврал он, – расскажут по всей станице – меня засмеют. Лучше встретимся вечером у ваших ворот или ещё где, как вы захотите, а сейчас мне надо скорее домой, меня ждут, мне некогда.
– Ну хорошо. Только обязательно! – радостно и капризно сказала Галя. – Значит, так: крайнее окно моей квартиры будет открыто, и я буду ждать в окне. Да? – тихо спросила она.
– Ждите, приду, – ласково сказал Мишка, неожиданно для себя обнял её за талию, чмокнул в щёку, круто повернулся и побежал по тропинке. Галя крикнула ему вслед:
– Миша, Миша! Ровно в десять часов вечера, да?!
– Не знаю я часов, у нас их нет. А как смеркнется, так и приду, – отозвался он, прежде чем скрыться за кустами.
Уже на высоком яру, где начиналась станица, Мишка оглянулся. Галя выходила из рощи и чуть заметно махнула ему рукой. Мишка постоял немного, хотел что-то крикнуть, но рядом кто-то шёл.
Не чуя ног, Галя пришла домой, к месту и, не к месту смеясь, стала угощать хозяев сладостями. Потом занялась приготовлениями к вечеру.
Ей было жутковато, временами она раскаивалась в том, что делает. Нервно ходила по комнате, останавливалась, засмотревшись в одну точку. Начинала бить нервная дрожь и сковывала всё тело, руки не находили места. Она принимала решение: не открывать окно, а выйти к воротам, встретить его, посидеть у ворот, поговорить – и всё. «Нельзя же так сразу! Что он подумает? Осудит и не придёт больше». Но тут же передумывала: «Нет, впущу его в комнату, закроем ставни, зажжём свет и будем сидеть, разговаривать. Ничего не случится. Он не позволит глупостей… А там что будет».
А у самой снова, как в ознобе, начинали дрожать руки, ноги, всё тело. Она то садилась, то вставала: «Я не могу больше, я готова встретить тебя, милый, желанный, иди скорее!»
Когда Мишка вскочил в окно, Галя, не выпуская его рук, на секунду прижалась щекой к его груди, потом попросила посидеть в комнате, пока она закроет окно, и опрометью выбежала.
Мишка остался один посреди комнаты. Слышно было, как бьётся сердце. Где-то на улице пели девушки, играла гармошка, а здесь нежно тикали дамские часики. «Вот чёрт меня догадал прийти, – думал Мишка. – Теперь, как окунь, попал на кукан. Да где же она запропала? С каких пор закрыла окно и не идёт…» Он готов был сбежать, но выхода через дверь не знал, в этом доме он не был никогда.
Вбежавшая в комнату Галя в темноте натолкнулась на Мишку. Она, чуть касаясь, обняла его: «Ну, вы теперь мой гость», – и пошла зажигать свет, но тут же вернулась со словами: «Ах, я и забыла, как же я не сообразила, бросила гостя на произвол судьбы, – ощупью подвела Мишку к кровати – Вот здесь посидите, пока я зажгу лампу», – и хотела уходить.
Мишка, державший её за руку, натолкнулся около кровати на Галю, ощутил её всю, ждущую, и каким-то током пронизало его… Он крепко обнял её за талию и притянул к себе. Она, как лиана, обвила его, задрожав всем телом. И бросились они с размаху, как с крутого яра в глубокую воду… И долго не отпускали друг друга, чтобы зажечь свет.
Когда свет всё же зажгли, Галя попросила:
– Не смотри на меня…
Мишка сел к столику, где лежало несколько книг, взял верхнюю с тиснением на обложке «Ги де Мопассан». «Ого, – подумал он, – поневоле на стену полезешь. Я этого автора знаю». Чтобы не смущать хозяйку взял другую. Подошла Галя, села напротив.
В глаза друг друга они не смотрели. На ней был застёгнутый на одну петлю шёлковый цветной халат, обнажавший шею и начало груди с трогательной, затенённой сейчас ложбинкой. Он поневоле увидел волнистые волосы, небрежно собранные и зашпиленные на затылке, беспомощные завитки, свисающие с боков на розоватую шею. Эта женщина была прекрасна. Такая она была ещё желанней, чем в начале встречи.
Мишка понял неуместность любого разговора, зашёл со спины и стал целовать Галю. Чем грубее были его ласки, тем милее они казались ей. На обоих напала неудержимая весёлость. Приблизив лицо и как будто запоминая, Галя рассматривала Мишку, заглядывала в глаза, гладила шею, руки, обнимала голову. Она пошла за занавеску кровати и позвала оттуда:
– Миша, Мишенька, иди сюда, иди скорее! Ох, что здесь случилось! – Мишка зашёл – Галя смеялась и тянула его к себе. Мишка потушил лампу…
Галя, дочь богатого калужского собственника Бориса Васильевича Мазорцева, в двадцать лет была выдана за хорошего человека, офицера. Прожила она с мужем всего два месяца. В четырнадцатом он ушёл на фронт и в том же году был убит. Галя искренно переживала его смерть, тем более что только начала входить во вкус семейной жизни. Но время шло, и горе постепенно размывалось. К ней многие сватались, но чувства Гали как будто заморозились. И только в станице при встрече с Мишкой с неё внезапно спали какие-то путы, мешающие ей жить. Всей молодой страстью она потянулась к его свежести и силе.
Галя и Мишка смогли расстаться только под утро. А потом уже не пропускали ни одного вечера. Смешало дни и ночи переполненное счастьем время.
3.
Между тем война, раскрутив свой гигантский маховик, требовала всё новые и новые жизни. Здесь молодые в радостях любви сетовали, что часы скачут минутами, там, на фронтах, люди слёзно просили кого-то, чтобы ночь проходила скорее. Ночные минуты тянулись часами. Смерть как будто спешила воспользоваться темнотой, внезапно, безжалостно хватая, отнимая цвет жизни. А прекрасные тела, только что трепещущие надеждой, обезобразив, превращала в гниль. И всё же люди с винтовками наперевес бежали и бежали на врага, падали, корчились в смертной агонии и умирали. Другие ползли на животе или сидели в окопе, встречая врага огнём; разорванные снарядом, погребались развороченной землёй навеки.
Не видели пока этого перед собой Галя и Мишка, не знали, что их очередь страдать и умирать близка, что их тоже неотвратимо втянет безжалостный водоворот…
Сегодня, в день приезда Дмитрия, Мишка пришёл к Гале через задний двор. Она встретила его нетерпеливыми поцелуями. Днём, оставаясь одна, Галя думала о будущем. «Я не могу уехать отсюда одна. Если и уеду, станет так плохо, что наверное вернусь. Я уже не могу без этой неуклюжей нежности, без всего, что зовётся Мишей, Мишенькой… Женихи в Калуге – мухи около мёда, лгуны болезненные, противно с ними говорить. Они и липнут-то из-за денег. А ведь этому ничего не надо, он и сам богат, и своё-то, не задумываясь, отдаст. Казаки не жадные, они вон и состояния пропивают».
Мишка сегодня пришёл позже обычного, был расстроен, но Галя этого не заметила. Его отругал отец за ночные прогулки, после которых Мишка дремал на работе. Они сели к столику.
– Миша, давай поженимся, – скороговоркой, как бы шутя, сказала Галя, покраснев, как яблоко. Мишка непонимающе смотрел на неё в упор. Галя не выдержала шутливого тона, обхватила Мишкину шею, уткнулась ему в грудь и прошептала:
– Я хочу быть твоей женой, твоей навсегда…
Мишка встал, отступил на шаг, в упор продолжая смотреть на Галю. По её лицу катились слёзы. Мишка с какой-то досадной грустью смотрел в глаза женщины, ещё недавно эфирно-недосягаемой, а теперь жалкой, уничтоженной…
– Да ты что, Галечка? Да разве это можно? Ты – барыня, а я? Я – простой казак. Меня тогда задразнят, скажут: «На барыне женился! А кто тебе работать будет, дуралей? Ребятишки будут за мной бегать: “Барин, барин, дай копейку”». Ведь ты нас вот такими видишь, Галя, только на праздники, дома, а посмотрела бы в поле – под пылью не узнала бы никогда. Там у нас только одни зубы белеются. Наши бабы сручные к работе: вилы возьмёт, черенья не терпят – ломаются, на жнейку сядет – сваливает, как мужчина. Наша баба любого городского мужика поборет, да ещё через себя, проклятая, норовит бросить, язви её. Если взять тебя в поле, то за неделю с тебя весь лоск слезет, люди узнавать не будут…
Галя вытерла слёзы, молча слушала. Мишкины доводы убеждали. Но что же делать? Поехать домой одной, а его оставить здесь – нельзя и подумать об этом! Никто не сравнится с Михаилом. Ах, какой бы они были парой! И потом, из него так легко сделать человека «хорошего общества». Ах, Миша, Миша Веренцов! К тебе можно быть равнодушной, только пока не увидишь, не побудешь с тобой…
– Ну хорошо, милый. Ты женишься на станичной девушке. Только боюсь, скоро раскаешься, вспомнишь, но поздно. Будешь с женой, а думать будешь обо мне. И вернуться невозможно… Ну… в общем, не нужно об этом. Больше я об этом не скажу ни слова… Чтобы не портить тебе настроения.
Но настроение было уже испорчено. Не Галиным признанием, а нечаянным сословным холодком.
– Скажи, милый, ты хорошо умеешь скакать на коне? – вдруг спросила она, чтобы развеять натянутость, с мужественной весёлостью заглядывая казаку в глаза.
– Ну и чудная ты, Галечка, – рассмеялся он. – У нас бабы и то скачут верхом, как сумасшедшие, – Галя нахмурилась. – На коне скакать – какая хитрость, – продолжал Мишка, – Ты посмотрела бы, как я на свиньях скакал, вот это да!
– Как так, на свиньях? – спросила Галя.
– Да так: в детстве я со своим другом Панькой, вот с тем, с которым мы сегодня днём шли по улице, я играл на гармошке, а ты в это время стояла у ворот… Да, забыл, когда мы прошли мимо тебя, Панька толкнул меня в локоть и говорит: «Вот эта бы штука тебе, Миша, как раз была бы под масть».
Галя рассмеялась:
– А ты что ему сказал на это?
– Да так, улыбнулся и промолчал.
– Напрасно. Ты сказал бы, что я уже давно твоя.
– Мне ещё не надоело ходить к тебе, – возразил Мишка. – Признался одному, значит, признался десяти. От десяти узнают сто, а там и ловушку нам устроят. Ты думаешь, никому это не надо? Многим.
– Да, ты, пожалуй, прав. А друга твоего я теперь знаю. Правда, я его не рассмотрела как следует. Ну, расскажи про свиней, Мишенька, – домогалась Галя.
– Вот ты друзей моих не знаешь, а если бы я шёл с девушкой, ты все оборки у ней пересчитала бы. – Галя смеялась. – А про свиней так. Мы с этим другом подладились на свиньях кататься. Увидим их на улице, загоним на пустырь, прижмём стадо к углу и прыгаем им на спину. Они пулей вылетают с пустыря и мчатся домой. Сколько раз падали с них! Держаться-то не за что и спина колесом. Я однажды скакал целый квартал на одной свинье, как Иван-Царевич на сером волке. Сижу, радуюсь, ветер в ушах свистит, а она скачет и хрюкает, а потом неожиданно как шмыгнёт в ворота… и я башкой доску в воротах выбил. После этого перестал на них кататься.
– Ой, да какие же вы все забавные, – хохотала Галя, предлагая Мишке вина.
– Нет, Галя, мы и так, наверное, сегодня с тобой проспим, – возражал он.
– Ну, миленький, выпей! Я прошу, Мишенька! Я не буду спать, буду следить за временем, – просила Галя. Они выпили.
Через час Мишка лежал на спине, ощущая под шеей мягкую руку, и говорил:
– Ну, Галечка, я на тебя надеюсь. Если хочешь спать, то прямо скажи, тогда я сам спать не буду.
– Нет-нет, мой милый, даю слово. Я так хочу, чтобы ты уснул. Я могу и днём, а тебе-то завтра опять эта адская работа в поле. Спи, спи, Мишенька, спи, мой родной, мой дорогой, мой желанный.
Последних слов Мишка почти не слышал… Он уснул как убитый, обняв на груди другую её руку.
Галя тихонько высвободила руку из-под Мишкиной шеи, поцеловав его в чуб, в губы, в грудь, на носочках пошла за спичками.
Ей хотелось посмотреть на него сонного. Коробку спичек сожгла она, рассматривая Мишку с ног до головы, расстегнула рубашку, целовала в грудь, в лоб, в щёки. Лежала щекой на его груди, обвив руками вокруг пояса: «Ну как бы увезти тебя с собой? А как папа радовался бы, да и мама, что у меня такой муж, да ещё казак! Говорил же папа, провожая сюда: “Поезжай, Галечка, не раскаешься, поправишься хорошо. Увидишь там оренбургских казаков, с ними мне доводилось кутить в Вышнем Волочке. Бесподобные весельчаки, самоотверженные люди и ужасные выпивохи”».
Перед глазами появилась мать, ласково кивая Гале, поздравляя с законным браком… И целовала Мишку, как сына. Галя спала, убаюканная волнами видений.
Вдруг голова Гали упала на постель. Из-под неё выскочил, как ужаленный, Мишка.
– Галка! Разиня ты эдакая! Караульщик, хрен тебе дать, дрыхнешь!.. Во дворе-то – утро. Как теперь пойду? Дома меня ищут, на жнитво ехать, – суетился Мишка. Схватил в темноте сапог – не лезет что-то – тьфу, чёрт, не на эту ногу, – сопел Мишка, как паровоз. Хохочущая Галя зажгла свет, бегала вокруг него, теребила за нос, за уши, дёргала за руку, мешала одеваться. вместо Мишкиной рубашки подала свою.
– Мишенька, Мишенька! Брюки-то ты забыл надеть!
Мишка сбросил почти надетый сапог, схватил брюки, сунул ногу, она попала в карман. Мишка рассмеялся и тут же нахмурился: «Надёжка, та никогда не проспит, а эта, зараза, растянулась и дрыхнет».
Галя хохотала, рассмешила и Мишку. Он на бегу поцеловал её. Галя вышла за ним, шутила: «Миша, вернись, полежи ещё немного…»
Мишка молча отмахнулся, погрозил кулаком, побежал на задний двор. Через минуту затрещал плетень, треснул сломанный кол, и всё стихло.
Галя вздохнула и вошла в комнату, там было тихо и пусто. На спинке стула висел забытый казачий ремень. Галя схватила его, судорожно сжала в руках и как бы в каком-то удовлетворении тяжело села на стул. Улыбаясь, как в лицо ребёнку, смотрела она на ремень, разложенный на коленях. И поцеловав его, гладила мягкими ладонями. Ей стало легче и не так грустно.
4.
Мишкина знакомая станичная девушка Надёжка не могла понять, почему Мишка не появляется на улице уже около месяца. Она надоела Паньке просьбами, чтобы тот сходил к Веренцовым, узнал в чём дело. Панька всякий раз возвращался один и отрывисто докладывал: «Мишку чёрт с квасом съел. В семье тоже не знают, где он бывает».
– В монахи, штоль, записался, язви ево, иль на нёбу улетел на метёлке. В земле ковыряла, там нет. Ну как сдох, ну как сдох, – сетовала Надёжка. – Ну пумаю, ну пумаю!
Перепрыгнув через плетень, Мишка вышел с вдовьего двора на другую улицу, по ней уже гнали в табун коров. Из-за угла выходили коровы Надёжкиной семьи. Как заяц, увидевший свору борзых, Мишка заметался из стороны в сторону: «Наверное, Надёжка гонит коров, – подумал он. – Куда деваться? Шмыгнуть в какие-нибудь ворота – все дворы незнакомые, а во дворах хозяева перекликаются».
Тем временем из-за угла вышла последняя корова. «Сейчас появится Надёжка», – думал Мишка. За коровами вышла Надёжкина сестра. Мишка облегчённо вздохнул, как будто сбросил непосильный груз. Поравнявшись с Мишкой, она насмешливо взглянула и вопросительно улыбнулась. Мишка покраснел, как зарево: «Как бы не догадалась да Надёжке не сказала, язви её». Надёжкина сестра вмиг догадалась, что Мишка с улицы возвращается домой, но Надёжке не сказала. Все Надёжкины семейные Мишку любили и зла ему не желали.
Поить коней гнал работник Шарип. Мишка встретил его в воротах и шутливо выдернул кнут из его рук.
– Давай я погоню, – сказал он, – а ты иди скорее собирай всё, что ещё осталось не уложенного на подводы. Скоро ещё двое придут, нанятые на уборку.
Шарип осклабился, ткнул кнутовищем Мишке в живот.
– А гиде пояси? – спросил он. Мишка махнул рукой, погнал коней на Урал, поить. Всё обошлось.
Степан Андреевич с похмелья спал долго, чуть не до восхода солнца. Вчера он собирался выехать на жнитво до зари, но его никто не разбудил, и сегодня он не в духе.
– Люди давно все уехали, а нас всё черти давят. Теперь бы надо уж там быть. Эта кукла тоже дрыхла, разиня чёртова, – сетовал он на жену. – Хоть бы ты, Шарипка, разбудил, уж если нет хороших хозяев ни одного чёрта. Мишка, гы, да Мишку самого с семи собаками надо искать. Ему наплевать, что без остатка сыпется… Ему бы только бегать до полночи, а дома пусть всё пропадёт.
Мишка улыбался, как подсолнечник, моргал Шарипке и думал: «Ни хрена, Степан Андреевич, наши с тобой бабы не стоят. Моя тоже проспала, проклятая. Нечего сказать: и свекровь, и сноха дрыхли до свиного визга, – улыбался он, вспоминая проведённую ночь. – Давай, Стёпа, прогоним их обоих и одну Надёжку на двоих возьмём, она нас будет будить, – хмыкал про себя Мишка… – Не расстраивайся, толку мало, лучше возьми Галю в снохи, она всех будить будет… к обеду. Ах, Галечка, Галечка, нет бы собрать меня толком, а она хохочет да бегает вокруг. Ах ты, Галюнька!»
Наскоро позавтракали, вышли запрягать. Потом снова зашли, сели все в ряд на скамейку, посидели несколько секунд, враз встали, помолились на иконы, где была зажжена лампада, а по бокам – две большие свечки, и вышли во двор.
Восемь рабочих коней и четыре пары быков, запряжённые в разные упряжки, вывел Веренцов на жнитво. Его обоз растянулся на квартал. Сзади шли две жатвенные машины.
Мишку отец посадил почему-то с собой, на переднюю подводу. Может быть, хотел с ним о чём-то поговорить, посоветоваться по хозяйственным делам? Это он делал часто. Мишка лёг на бок позади отца. Обоз потянулся на выезд из станицы. Из каждой улицы выезжали таборы отдельных хозяйств: на конях, на быках. Собаки налетали друг на друга, катаясь клубками, поднимая пыль. Дороги шли вместе, за станицей расходились врозь и устремлялись на разные полевые участки.
Мишка уже давно заметил Анюшку, но вида не подавал. Анюшка ехала с братом на одной повозке. Брат её был хорошим другом Мишки. До Надёжки Анюшка была постоянной Мишкиной знакомой, а теперь, когда Мишка переметнулся к Надёжке, Анюшка не давала ему прохода. Он от неё прятался, а если спрятаться не удавалось, не обижал, сидел с ней у двора.
Анюшка знала, что Мишка гуляет с Надёжкой, но покорно стояла у ворот своего дома и ждала, когда Мишка пойдёт мимо. Не выдавала своей ревности Анюшка и ничего не говорила о Надёжке, чтобы он не обиделся. Мишке это нравилось, и Анюшку он просто жалел. Её-то и увидел сейчас он. «Как бы не подбежала сюда с каким-нибудь “делом”, у них ведь, у этих баб, всегда какое-нибудь дело да есть». Не успел Мишка подумать, как с Анюшкиной подводы раздалось: «Миша! Миша! Ми-ша!» Он, услыхав её сразу, думал, что она перестанет, но Анюшка кричала уже в третий раз. Мишка взглянул и погрозил ей кулаком, она ответила ему тем же.
Степан Андреевич услыхал третий возглас Анюшки, а когда Мишка повернулся и погрозил, Степан Андреевич огрел Мишку кнутом вдоль бока и заворчал про себя что-то.
– Я-то при чём! Вон её иди хлестни… не раскаешься, – съязвил Мишка. Отец не расслышал последнего слова. Он отпускал какие-то беззлобные ругательства то ли по адресу Мишки, то ли Анюшки, то ли просто так, в воздух, по привычке.
Анюшкин брат сунул сестру в бок:
– Ну что разоралась, дура? Вот дядя Степан услышит, так распишет тебе кнутом мягкое место, да и Миньку-то подведёшь, и тому ввалит кнута!
Анюшка хохотала, уткнувшись лицом в плечо брата. Она уже видела, как Степан Андреевич стеганул Мишку. Она думала: «Покрепче, покрепче стегани его, дядя Степан, это ему за сегодняшнюю ночь». Ей уже передали, что Мишка пришёл с улицы утром…
5.
Сегодня на жнитво выехали все. Станица снова опустела. В поле Мишка загрустил. Не прогоняли скуку ни работа, ни общество Шарипки, отца и рабочих. Вечером приходили на стан поздно, в темноте. Наскоро ужинали и ложились спать, чтобы подняться до восхода. Сон сражал всех, как насмерть, но Мишка долго лежал на сене лицом вверх и смотрел на звёзды – сон не шёл к нему. «Ну что же мне делать? – думал он, – уж не жениться ли на Гале? Да нет, нельзя, отец не согласится, он скажет: “Ты что же это, сукин сын, выдумал? Берёшь эту цацу, чтобы только спать с нею, а работать кто тебе будет? Ведь ты с ней в нищие выйдешь, так твою…” Да и пойдёт, и пойдёт меня чистить. Вот чёрт её поднёс тогда. Свои девчата уж как-то и не тянут, а эта, ну как приколдовала, чем чаще ходишь, тем больше тянет, ах растак её, – ругался Мишка и повернулся на другой бок. – Если поехать с ней в Калугу… Как она говорит: Калуга – город хороший, отец у неё богатый, она одна дочь у отца. Там будет весело. Ох, едва ли там веселее, чем здесь. Уезжай туда, а там и казаков-то не увидишь ни одного. Да заставят ещё казачью фуражку снять, а надеть мещанскую шапку, а то ещё хуже – кепку, отец приедет туда, да эту кепку-то вместе с головой и оторвёт… Фу. Да-а-а-а. а на службу-то, на службу будут брать? Гы-ы, да ведь там прямо в пехоту попадёшь и будешь ходить с винтовкой на плече, “Чубарики-чубчики” петь. А здесь-то и конь, как вихрь, и седло с набором, и шашка новенькая, блестит, как зеркало, и пика… Нет, Галечка, хорошая ты, лучше наших всех, говорить нечего, какая-то вроде как сладкая. Вот я до сих пор всё ещё и прикоснуться к тебе как следует боюсь.
Вот жалко, я теперь Митю, наверное, не увижу, уедет, а то бы с ним посоветоваться. Он бы всё сделал… Да ведь вот беда, она, наверное, работать ничего не умеет: ни хлеб печь, ни коров доить, ни телят поить. Нет, уж видно проводить её поскорее…
Вот если бы можно было здесь взять Галю и никуда с ней не ездить, это бы хорошо, но ведь отец не согласится и люди задразнят. Эх, Галя, Галюня, чёрт тебя поднёс, заразу. До тебя я хозяином в станице был – над всеми парнями и девками, да как заиграю на гармошке… Дух захватывает! А теперь и гармошку в руки не беру, её, наверное, мухи всю засидели, не знаю, что на улице делается… Только, знаю, прячусь от всех, да к тебе. Вот дурак, разиня. Казачью фуражку с голубым околышем позорю… Тьфу, мать твою так… Жаль, что Гнедой сегодня в машине ходил, он бы выручил, сейчас же у неё был бы. Завтра не запрягу Гнедого, договорюсь с ребятами, а главное, с Шарипом, и ускачу, как только стемнеет…» – с этим решением Мишка уснул.
Днём, во время обеда Мишка пошёл к Паньке, к его стану в версте от Веренцовых. Панька лежал на сене, животом кверху, курил папироску и гладил ладонями живот под рубашкой. Увидев друга, Панька вскочил.
– Ну ты, соловей болотный, – выругавшись, обратился Панька к другу. – Надёжка мне злу тоску нагнала, всё пристаёт, чтобы я ей сказал, куда ты пропадаешь по вечерам, а я и сам не знаю. Ты что мне-то не скажешь?
– Да никуда я не хожу, – задумчиво, растягивая слова, ответил Мишка. – Ты сам знаешь, какой у нас отец, он ни себе, ни нам не даёт покоя, гоняет, как зайцев: за лесом, за сеном, за дровами, да мало ли зачем. Ну, а у тебя как дела?
– У-у-у-у… и не говори, – махнул рукой Панька, – в воскресение и домой не ездил, и ещё воскресенья два не поеду. Верка проходу не даёт, коровой ревёт. Держит себя за брюхо и скулит: «Што будем делать, што будем делать?» – «Делай, говорю, што-нибудь, ступай к бабке Графене, я заплачу потом. Дам с воз пшеницы, а то и больше. Бегала она там куда-то, но у неё ничего не вышло…
6.
А Верка бегала в это время со двора во двор: не поможет ли кто-нибудь выгнать болезнь, давно уже привязавшуюся к ней…
Когда чёрными змеями поползли слухи о том, что Верку часто видят ночами с Панькой, тётка Графена с улыбкой потёрла ладони: «Врёшь, придёшь ко мне, никуда не денесся. А заплатить-то тебе есть чем, да и у Паньки амбары не хворали…»
С тех пор прошло три месяца. Верке ничего не оставалось делать, как идти к Графене. Она прознала, что тётка Графена с женщинами идёт в лес за ягодами. Верка тут же поспешила втереться в их компанию. А матери сказала, что уж очень хорошие ягоды нашли бабы в лесу и её зовут с собой. И мать Верку отпустила.
В лесу, когда бабы разошлись, Верка боком-боком старалась приблизиться к Графене. Она косила глаза в сторону баб, как бы не услышали её разговора с Графеной. Наконец та зашла за куст, Верка тут как тут. Она стала говорить, путая слова, сбиваясь с толка:
– Тётя Графена, а тётя Графена, я… давно… бегаю… всё хочу тебя увидеть да поговорить. – Графена насторожилась, – У меня што-то давно… нет ничего… А вот тута, – большим пальцем потолкала она в живот ниже пояса…чево-то…
– Ну-ну, знаю, знаю, – перебила её Графена, – приходи ко мне вечером, сделаю што-нибудь, – она многозначительно нахмурила брови.
Верка ошалела от радости, чуть не поцеловала Графену, высыпала ей все ягоды из своей корзины. На возражение Графены божилась, что ягоды ей не нужны, а если и нужны, то она себе ещё наберёт. Она готова была идти прямо к Графене. Она слышала, что Графена в этих случаях хорошо помогает…
А вечером Графена сказала, что лечить уже поздно, болезнь «пустила глубокие корни». Теперь одно спасение – подтягивать потуже пояс юбки и всё…
И подтягивала Верка свой пояс всё туже и туже с каждым днём… А после говорили, что Верка, при помощи Графены зарыла пятимесячного выкидыша в яру, около кладбищ. На кладбище-то, мол, нельзя, он не крещёный.
– Настряпали мы с Веркой, – говорил Панька, – хоть глаза домой не показывай…
7.
Уходя от Паньки, Мишка ни о себе, ни о Гале другу не сказал. Галя, так или иначе, должна ехать домой, он ехать не может, его никто не пустит. Он поскучает-поскучает да перестанет. А Паньке сказать, он расскажет девчатам, те после засмеют.
Тяжёлый камень остался на Мишкином сердце. Ещё тяжелее он казался от того, что грусть Мишка испытывал первый раз в жизни…
Галя несколько вечеров выходила к воротам, где подолгу просиживала напрасно, ожидая Мишку.
Сегодня Галя, раздетая для сна, сидела на подоконнике и прислушивалась к звукам вечерней жизни. Иногда она бросалась то к двери, то к окну, но слух её обманывал. Несколько дней она не запирала на ночь дверь со двора: «Придёт, когда буду спать, а дверь окажется закрытой, и уйдёт обратно». Сейчас она слушала, как где-то недалеко тихо пели девушки, чудом не взятые в поле. Гармошки не слышно нигде. Если и приезжал кто-то из парней случайно по делу с поля, то ходил по улице незамеченным и на гармошке играть стыдился, чтобы не сказали: «Страда идёт, а он, лодырь, дома».
Галя уже знала Мишкину игру на гармошке, которая всегда доводила её до слёз.
«Где-то играет, играет Мишенька, а сюда не идёт. Уж не обиделся ли на что?» – шептала она сквозь слёзы. Девушки пели:
Мил послал другую сватать,
Я в постели стала плакать.
За плохова пришли сватать,
Я лежала – не спала.
«Вставай, дочка, – мать будила, –
Я просватала тебя».
На горе ковыль цветёт,
Не жди, милый не придёт…
С другого конца еле слышно доносилось:
Чудный месяц плывёт над рекой,
Всё объято ночной тишиной.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой.
Но, увы, коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье с другой…
Песнями девушки довели Галю до слёз, даже рыданий. В комнате было душно и жарко, она сбросила с себя всё и уснула на мокрой от слёз подушке.
Уезжая из станицы, Дмитрий Веренцов сидел в два часа ночи у отца. Они допивали последнюю полбутылку. Дмитрий просил отца привезти ему во двор с поля воз сена, как-нибудь, между делами. Степан Андреевич обещал послать подводу, ночью перебросить это сено.
Когда Мишка пришёл от Паньки, Шарип сказал, что хозяин посылает его наложить воз сена и привезти на стан. Для чего, Шарип не знал. К вечеру воз сена стоял на стану.
С загадочной улыбкой при испытующем взгляде Степан Андреевич подошёл к сыну:
– Михаил, домой ехать хочешь?
Мишка больше от радости, чем от неожиданного комизма вопроса отца отвернулся и расхохотался. Потом буркнул что-то непонятное от стеснения.
– Ужинай и запрягай, отвези Мите этот воз во двор, – сказал отец.
Предупреждать о том, что вернуться нужно сейчас же, отец не посчитал нужным.
Мишка ужинать не стал – не хотелось. Запряг коня и, отъехав за бугор, поехал с возом рысью. Сноха встретила Мишку, посадила за стол ужинать.
– Покушаешь, Мишенька, и ляг, усни, а я с ребятами пока сено складу, а потом разбужу тебя. Ты там на жнитве замучился.
Мишка рассмеялся.
– Спасибо, сестричка! – обрадовался он тому, что его не заставят складывать сено. – Но спать не хочу. Я пока схожу в одно место, по своим делам, ладно? А? – спросил Мишка.
– Ох, Миша, не пробудь, смотри, на этих делах до утра, а то и мне тогда попадёт за то, что отпустила тебя. Ну, ступай, – согласилась сноха.
Мишка подошёл к знакомым воротам – никого нет, тихонько постучал в ставень – нет ответа, постучал громче – то же. Мишка пошёл домой, на полпути остановился: «А что, если тихонько пройти в ворота, зайти с крыльца и постучать в дверь?»
Он вернулся. Ворота оказались закрыты, он кое-как перелез через высокий забор прошёл в сени, до избной двери. Не закрыта.
Мишка зажёг спичку, переступил порог и бросил её, обжёгшись. Он захватил сразу кучу спичек. Сквозь их вспышку из глубины комнаты, от кровати длинно уколол радужный лучик её колечка. По большой подушке разметались волосы. Голова чуть откинута. И сон не успел стереть какого-то детского выражения обиды на лице. Цветущая, полногрудая, порозовевшая, Галя лежала почти на боку. Полные белые ноги слегка подогнуты. Мерно подымалась и опускалась грудь. Подчиняясь её дыханию, подымались и опускались золотой браслет на одной руке и два колечка – на другой.
Мишка опять обжёг пальцы и попятился назад – он не хотел будить её сейчас. Тихонько вышел на крыльцо. С заднего двора на него бежал хозяин с вилами и криком: «Кто там ходит, протакую мать…»
Мишка рванул с крыльца в один прыжок до забора, а забор перемахнул, как будто и не задев за него. Через несколько секунд хозяин открыл ворота и пустился за Мишкой по улице. Мишка, как заяц, путал следы, домой бежать было нельзя. Он прыгнул через чей-то плетень и скрылся в огородах…
– Барыня, барыня! К вам лез какой-то вор! Вот сейчас убежал, – разбудил Галю хозяин. – Я его увидел, когда он выходил на крыльцо, и побежал за вилами. Ну, ладно удрал, а то бы я его посадил на рожки. Посмотрите, барыня, не украл ли что?
Галя не подала виду, что знает вора…
Мишке ничего не оставалось делать, как не солоно хлебавши отправиться домой.
Елена Степановна испугалась, спросила: «Миша, что случилось? Почему ты один и пешком?»
Мишка сказал, что привозил сено снохе. А утром рано попросил разбудить его. Поужинав, Мишка лёг, но сон не шёл к нему. Какой там сон! Галя стояла перед глазами такая, какой он только что видел её. Его кидало то в жар, то в холод. Он проклинал не в меру ретивого хозяина дома.
Приехав на стан чуть свет, Мишка сказал Шарипу, чтобы сегодня дал отдых Гнедому, не запрягал его в жнейку, а вечером, как только стемнело, сел на него и стрелой помчался в станицу.
У Гали окно было открыто, затаясь, она ждала его.
Как только Мишка подошёл, она протянула ему обе руки. Повиснув друг на друге, они кружили по комнате, как помешанные. Галя сквозь слёзы рассказывала о своих переживаниях…
Нахохотавшись досыта над вчерашним, Галя стала просить Мишку взять её с собой на жнитво.
– Если мягкие места чешутся, то ладно, возьму. У отца кнут хороший, сам плёл, – спокойно сказал Мишка.
– А разве очень сердитый твой отец? – опасливо спросила Галя, заглядывая в глаза.
– Да нисколько не сердитый, но ведь если дать нам волю, то мы или кого-нибудь привезём на работу да будем там потешаться, не работать, или сами уедем на неделю. Так и хлеб останется на корню в зиму.
– Ну, Миша, тогда покажи мне поля, прокати меня куда-нибудь.
– Это можно, – сказал Мишка. – В воскресенье я поеду на бахчи за дынями и арбузами и тебя возьму с собой.
– Как я рада, как я рада, – прыгала Галя вокруг Мишки, – Ведь у нас в Калуге нет бахчей, там не растут дыни и арбузы.
– А сейчас я лягу, караульщик у меня есть хороший, не боюсь, что просплю.
Влюблённые смеялись. Галя закрывала ему руками рот, запрещала говорить о прошлой своей оплошности и обещала сегодня не спать: не гасить лампу, сидеть рядом с Мишкой и держать часики в руках.
– Ну смотри, Галя, ты на самом деле не подведи меня, – предостерегал Мишка, идя к кровати. Галя пошла вслед за ним «прощаться».
8.
На стан Мишка приехал вовремя. Там все уже были на ногах, подгоняли скот – запрягать в машины. Мишка сейчас же взял вилы и пошёл к жнейке, чтобы занять самое трудное место – сбрасывать вилами хлеб. Сегодня он был в хорошем расположении духа, а память о бессонной ночи отгоняла усталость. Его позвал к себе отец. Мишка насторожился и направился к нему быстрыми шагами, думая: «Как бы не ошарашил чем, если узнал что-то». Но отец ласково взглянул сыну в глаза, положил руку на голову, сказал:
– Ты, Миша, лезь в балаган, усни часок-другой, хлеб сваливать Шарип сядет.
Через несколько минут обрадовавшийся Мишка спал, как убитый.
Через час Степану Андреевичу нужно было пойти на стан по делу. Он зашёл в балаган, понюхал воздух: «Што за чёрт, всё время от него ташшит и ташшит каким-то дикалоном альбо[15] духами? Инды в носу вертит! Уж не подцепил ли какую барыню, холера». Мишка лежал на спине, раскинув руки. Его свежее матовое лицо, волнистые тёмно-русые волосы, мускулистая грудь и плечи притянули внимание отца. Степан Андреевич остановился, посмотрел: «Хорош всё-таки сынок, язви ево, не наглядишься. И джигитовать – собаку съел, и шашкой рубит неплохо. Пусть поспит, жалко будить».
Степан Андреевич вышел из балагана, продолжая думать о сыне: «Ну вот по бабам-то, по бабам, зараза, бегает, у-у-у, холера».
Вернулся к балагану, чтобы разбудить. Дошёл до двери, постоял, махнул рукой, повернулся и пошёл к машинам…
Мишка суетился, собирался на бахчи. Предупреждённая вечером, Галя должна была ждать за станицей. Степан Андреевич, отправляясь к обедне, увидел на дворе Мишку с пологом в руках, им он собирался закрывать Галю, если встретится кто по дороге. Отец спросил:
– Куда это ты полог-то берёшь? На што он тебе?
– Да я им самые хорошие дыни накрою. А то парни встретятся: «Дай, да дай». Не дать как-то неудобно, – подморгнул сам себе Мишка.
Степан Андреевич прошёл…
За станицей, в полверсте около дороги, которую показал вчера Мишка Гале, стоял раскрытый зонтик, за ним лежала его хозяйка.
Мишка подъехал к зонтику, смеясь, пригласил:
– Ну, впрыгивай скорее, толстушка! Ещё не подсаживать ли заставишь? Если будем подсаживаться, то и останемся двое на дороге, коню-то только вслед посмотрим, он ждать не будет.
Смеющаяся Галя села. Поехали. Она никак не могла устроиться удобно.
В тарантасе сидели с вытянутыми ногами, на разостланном пологе с запасом с Галиного края на случай, если нужно будет лечь и закрыться.
Ехали и разговаривали, шутили, играли, как дети.
Никогда Галя не испытывала такой полной жизни, как сейчас. Каждый кустик, даже пожелтевший, а не только зелёной травки, каждая вылетевшая птичка вызывали восторг. Галя сваливает Мишку на спину, он хохочет, сваливает её. Она не боится и не стесняется Мишки. Она изучила его, искусно руководит им. Что впереди, будет видно, но сейчас самоуверенная радость так и рвётся наружу, так легко на душе, как будто и солнце-то иначе светит-греет.
За недолгую жизнь с мужем Галя не ощущала такого даже в медовый месяц. То ли не созрела к тому времени женственная способность её всё отдать любимому и, может быть, всё взять, то ли вызывала приторность разрешённость любви, уверенной в чувстве другого. Здесь всё было не так. И запретные, урывками встречи, и боязнь потерять, и ревнивые подозрения. Гале казалось, что Мишка порой равнодушен, недостаточно прикован к ней, а она даже не могла схитрить, что любит другого. Здесь не на кого указать, и Мишка всё равно не поверит. «Утащить бы его в Калугу, вот там ревновал бы, не спускал с меня глаз. – Но тут же возбуждение сменялось печалью. – Он ведь такой, что может сесть на поезд и поминай как звали… И ключа к нему не подберёшь, обыкновенные не подходят, ни один. Зачем я пошла тогда в рощу, когда увидела его впервые? Ну, полюбовалась бы, и только. Так вот нет! Этого мало, решила добиться его. Вот и добилась. А если бы не это, он теперь, может быть, ходил бы к какой-нибудь девушке… Нет, нет, я не раскаиваюсь, он должен быть только моим, больше ничьим. Не могу представить, что он где-то обнял и поцеловал другую. Я уверена, он этого не сделает, он только мой. Да и подозревать его ещё рано, он так молод, так молод, ох, Боже мой, Боже мой…»
Всё это передумывалось в одинокие бессонницы, прежде чем всё-таки заснуть, убедив себя очередной иллюзией. Сны снились непонятные своими страшными картинами…
Как бы твёрдо ни решила она прекратить или хотя бы ослабить влечение к Мишке, у неё ничего не получалось. Она была уже бессильна и словно плыла большой рекой в половодье на льдине далеко от обоих берегов.
Нет, этому может помешать только стихия, стечение обстоятельств, чужая воля или внезапное разочарование, отвращение к любимому.
Что её ожидало впереди?
– Будет видно… – повторяла она. А сейчас радуется. Мишка с ней, а она с ним, и больше ничего не нужно!
Она бросается на него, сваливает на спину, целует. Рыжий подозрительно и лениво оглядывается, то прижимает, то ставит уши и слегка фыркает.
– Вот, смотри, Галечка, Рыжий тоже за меня горой.
Вдали показалась подвода.
– Ну, Галина Борисовна, кто-то едет навстречу. Ложись и закрывайся, – полушутя-полусерьёзно сказал Мишка.
Галя легла на спину, головой на приготовленный тулуп. Она тряслась от хохота. От сотрясения тарантаса ходуном ходило под пологом пышное тело.
Встретившийся сельчанин в недоумении посмотрел на необыкновенный Мишкин груз, проехал, ничего не спросил. Впереди показалась ещё подвода.
– Лежи, Галя, не вставай, кто-то ещё едет, – предупредил Мишка. Встречный быстро продвигался. Галя молчала.
– Тр-р-р-р! – закричал, подъехавший вплотную и выпрыгнувший из своей телеги Панька.
– Ты што же, распротакая-сякая, я еду домой, а ты из дома? – выругался приятель и подошёл к Мишке. Тот смутился, покраснел, в упор смотрел на друга.
– Да мы… да я… на бахчи. Скоро вернусь, тороплюсь к отходу обедни… Ну, я поеду скорее… – путался Мишка.
– Обожди, чево торопиться? Ну как у тебя дела-то? А это чево везёшь под пологом? – И не дожидаясь ответа, Панька за спиной у Мишки лапнул пятернёй, пощупал сквозь полог необыкновенный, мягкий Мишкин груз.
Галя как-то по-поросячьи тихонько визгнула и повернулась на бок. Мишка резко дёрнул вожжами, рысью поскакал мимо Паньки, задев ему за ногу задней осью. С хохотом упал боком на Галю. Вслед грозил кнутом, кричал Панька:
– Я вот тебе, чертяка… ноги чуть не поломал!
Мишка ускакал. Панька бурдел про себя: «Ну кого же он здесь возит? Не иначе – Надёжку. Ну я её, заразу, сегодня проберу, скажу – скулишь: “Не вижу ево уж больше месяца”, а сама инды под полог забралась…»
– Вставай, Галя, теперь не ляжешь, хоть пускай сам царь встретится.
Галя встала. Вспотевшая, смеющаяся, надела панаму.
– Ну почему не лягу? Лягу, если нужно будет, всё, что захочешь – сделаю.
После часа езды они выехали на высокую гору, с которой, как на ладони, открылся Оренбург.
9.
Как вечно дышащий организм, сияющий златоглавыми церквями, многотонный и многоголосый звон которых щемил сердце, Оренбург сообщал нечто радостное, сонливое, манящее. В иной чуткой душе мог вызвать слёзы – чтобы потушить страсти и обиды, излить жалость и соболезнование или чрезмерную радость.
Остановившиеся на горе Михаил Веренцов и Галина Мазорцева стояли около коня. Равнина из-под их ног уходила к подножью Оренбурга и впивалась острым ребром в железнодорожную дамбу, вымощенную белым камнем-плитняком, дамба струилась из-под стен Оренбурга, бежала на Ташкент. За ней голубой лентой смыкалась с горизонтом линия Урала. Левее её в дымке дрожали станица Павловская, а ещё левее на юг – немецкие хутора.
Оренбург, поднявшийся на куполообразную гору, открывал глазу все свои храмы, большие здания и улицы, ровными чёрными рубцами легшие вдоль и поперёк огромного пригорода – Форштадта. Главы многих церквей блистали золотом.
Отметивший вершину горы самый высокий в городе храм женского монастыря произвёл на Галю непонятное впечатление. Она несколько раз переспросила Мишку, что это за церковь такой высоты. А когда он сказал об огромном кладбище около монастыря, Галю словно ржавым гвоздём кольнуло в сердце. Она громко вздохнула – вздохом ещё незнакомого ей предчувствия – и, не отдавая себе отчёта, попросила:
– Миша, когда я умру, схорони меня на этом кладбище…– и рассмеялась, вытирая глаза.
Он не ответил, приняв это за неуместную шутку.
Не хотелось уходить отсюда.
Во все стороны под уклон горы бежали хлебные поля, одни желтели жнивами или несжатой пшеницей, другие зеленели просом, бахчами. По дорогам в Оренбург и Киргизию тянулись нескончаемые караваны верблюдов с вьюками или впряжённых в телеги.
Прокофий давно заметил лошадь Веренцовых, но не мог понять, кто сидит с Мишкой. Он приложил руку ко лбу и стоял, дожидаясь.
– Брось, дядя Прокофий, смотреть, всё равно не узнаешь, – сказал Мишка и остановил коня.
Чтобы подойти к Мишке, Прокофий описал большой круг, обойдя спрыгнувшую с тарантаса барыню, часто моргая, косил глаза в её сторону.
– Здравствуйте, дедушка! – звонко, серебристо поздоровалась с ним Галя.
Прокофий обтёр ладони о потерявшие цвет штаны, подошёл, подал рассмеявшейся Гале руку. Мишка тихонько хохотал, стоя около коня.
– Здравствуй, барыня, здравствуй, матушка! Вот у меня уж в балагане-то хорошо, холодок… Идите туда с Мишей, ведь у нас Миша-то не казак, а просто енерал.
Улыбаясь, Галя пошла к балагану. Прокофий семенил к Мишке.
– Михайло, это кто же, жена альбо кто? Уж больно хороша, язви её, – тихо домогался Прокофий.
Галя, всё слыша, смеялась.
– Нет, дядя Прокофий, просто знакомая дачница, попросилась прокатить и всё.
– Плохо, – поморщился Прокофий, – уж больно она тебе под масть, уж больно хорошая, ну как хвархворовая вся дочиста, кляп ей в дыхало. От неё одним дикалоном наисся, индо в нос шибаат. Ты женись на ней, как-небудь, Михайла. Мне и то уж больно хочетца, чтобы ты женился на ней…
Пока они собирали дыни и арбузы, Галя бегала по бахчам, ловила кузнечиков.
Прокофий несколько раз звал её к себе и Мишке, но Гале вдруг захотелось побыть одной. Она с восхищением рассматривала, как растут дыни, арбузы, тыквы, подсолнухи, пожелтевшие огурцы.
Прокофий энергично уговаривал гостей остаться до вечера, но Мишка и Галя распрощались с ним.
Прокофий просил барыню, сложив руки на грудь:
– Барыня, матушка моя, красавица бесценная, ты уж выдь за Мишку-то замуж, как-небудь, поскорей, а то и мне-то терпенья нет ждать вас, инда поджилки трясутца, хочетца, чтобы вы женились поскорей. Ведь Мишка-то у нас, холера, больно хороший, язви его. За ним вон наши девки просто сдыхают. Дочь вон эфтова…
– Ну ладно, ладно, дядя Прокофий, – сказал Мишка, – хватит, до свиданья.
Прокофий замолчал. Галя, еле отдышавшаяся от смеха, схватила за вожжу.
– Обожди, Миша. Чья, чья дочь, дяденька? Скажите, чья?
– Да шут их знат, – увернулся от вопроса старик, метнув взгляд на Мишку, – оне все, аж голяшки мокры, бегают за ним.
– Ну поедем поскорее, Галя, а то он договорится до хорошего.
Прокофий долго смотрел вслед редким гостям. Вернулся к балагану, сел. Вдруг соскочил, стал кричать Веренцову.
Еле услышавший Мишка остановился. Прокофий бежал, как молодой, кричал:
– Миша, забеги там, ради бога, к нам, скажи моей старухе, чтобы она пришла ко мне и принесла табаку, – погладил бороду и вернулся…
Мишка хохотал. Галя покраснела и стыдилась разговаривать…
Перед станицей Галя сошла с тарантаса и, попрощавшись, пошла в сторону, чтобы зайти в улицу с другой стороны, сказав Мишке:
– Не опаздывай, буду очень ждать.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1.
Панька шёпотом ругал проснувшегося Мишку. Он на корточках сидел у изголовья друга. Мишка лежал на спине, потягивался и посмеивался.
– Ну, Анютку дак Анютку вёз под пологом, што особенного, так бы и сказал, а то чухнул да ускакал, и за ногу задел осью, чуть ногу не сломал. Я думал, ты Надёжку вёз, а стал ей говорить, так она и знать ничего не знает… Ну айда, пойдём скорее.
Мишка умылся. Взял в руки гармошку.
Группа девушек сидела у ворот дома, почти напротив Галиной квартиры. Парни подошли туда, там была и Надёжка.
Из комнаты Галя услышала голоса молодёжи, быстро оделась, вышла ко двору, села на скамейку. Ей хотелось получше рассмотреть Надёжку, о которой рассказывала ей хозяйка. Надёжка, мол, не дурна собой, ну така бойка, така бойка, на одной ноге семь дыр вертит. Ну, солдат, да и всё…
Гале неудержимо захотелось посмотреть эту казачку-«солдата». Интересна ей была и вся молодёжь этих мест. Парней и девушек собралось много. Молодёжь веселилась, удивляя городскую барышню вольными, развязными взаимоотношениями и жестами.
Сердившаяся Надёжка не выдержала, отозвала Мишку в сторону, попятилась шага на два, взяла руки в бока, часто моргая глазами:
– Да ты што ж, собака, целыми возами зачал баб возить по степям, инды полог чуть-чуть сошпиливашь! Всё говоришь, отец не пускат на улицу, а сам бегаш, как кобель по мясным рядам. Говори, кто лежал под пологом, а то сейчас вот этим камнем ошарашу.
– Если бы я так на тебя рассердился, то ей-богу, не стал бы с тобой разговаривать. Ну что тебе стоит послать меня ко всем анчуткам и гулять вон с Васькой. Он ведь за тобой все сапоги износил, бегает, и парень он хороший, – уговаривал Мишка.
– Да не люблю я Ваську, подь ты с ним к чёрту, – на глазах у Надёжки блестели слёзы.
– Ну ладно, разбираться будем после, а здесь улица и день, люди видят, над тобой же будут смеяться. Да и зачем ты меня ругаешь? Я ведь тебе не муж, и ты мне не жена и не пристяжная, и ты, и я с кем хочем, с тем и гуляем. А баб, говоришь, возами возил, то никаких баб я не возил, это над тобой Павлушка подсмеялся, а ты поверила, он уж говорил мне об этом. Вот, говорит, я Надёжку разыграл. Эй, Паня, пойди сюда, – закричал он другу. – Вот ты её разыграл, а она меня чуть не избила.
Панька поспешил с выручкой.
– От-та дура, я посмеялся, а ты поверила, зараза. Тьфу, ну хоть ничего им не говори, всё равно придумают.
Успокоенная Надёжка, улыбаясь, побежала к девушкам. Панька и Мишка о чём-то поговорили, рассмеялись и вернулись к молодёжи.
Обрадованная Надёжка не отходила от Мишки, а он жался от неё, чувствуя на себе взгляд Гали. Наконец Мишка предложил пойти всем на другую улицу.
Девушки, а за ними и парни с хохотом ушли за ближайший угол.
2.
Подходило время отъезда Гали домой, в Калугу.
Она знала, что в станице учительствует дама, Анна Григорьевна, на зиму приезжает из Оренбурга, а сейчас проводит каникулярное время дома. Надо найти эту даму и договориться, чтобы та уступила Гале свою работу. Галя оплатит ей жалованье за весь год сразу отцовским чеком.
«Брошу Калугу. Зачем мне гимназия, зачем карьера? Здесь спокойней, и воздух чистый, сельский… – по-детски рассуждала Галя. – Но как найти Анну Григорьевну?»
Галя спросила хозяйку, та ответила: «Знаю я, што у нас учительша Анна Григорьевна, а где она живёт, глаза лопни, не слыхала».
Галя пошла к атаману.
Любезно приняв Галю, атаман, которого она назвала не господином атаманом, а по имени и отчеству, Василием Анисимовичем, сказал ей:
– Я не знаю, но мне кажется, барыня или барышня, что наша учительница Анна Григорьевна Голощапова живёт в Форштадте. Точно её адреса я не знаю, и едва ли он где значится. Её адрес можно получить только у тех людей, с которыми она здесь знакома. Можно узнать у Веренцовых, она к ним ходила.
Краска бросилась Гале в лицо. Ей показалось, что на последних словах атаман улыбнулся, хотя он не имел в виду другого смысла.
Галя поблагодарила, быстро повернулась и вышла.
«Как видно, изрядно вымуштрованный, из недавних военных, и, кажется, не рядовой казак, – подумала Галя. – Что значит любовь – она всё окружающее заставляет любить. Вот даже атаман их мне нравится, а я даже простых казаков боялась». Галя долго думала об этом миловидном, с чёрными глазами атамане.
Она дала телеграмму домой: «Чувствую маленькое нездоровье, задержусь несколько дней после срока. То же скажите гимназии. Целую. Галя». Но вместо нескольких дней шла к концу вторая неделя.
Как масленый блин, зажаренный и затомленный на жирной, горячей сковороде, чувствовал себя около Гали Мишка…
Добилась-таки Галя адреса Анны Григорьевны. От Мишки она ничего не могла узнать. На её вопрос он ответил:
– А шут её знает, где она живёт. Зимой она всё к нам ходила, журналы да газеты носила, а мы читали. А зачем ты спрашиваешь? Зачем она тебе нужна?
Галя не ответила и снова спросила:
– А молодая она, интересная или нет?
– Она славная, хорошая, мы все её любили, – растягивая слова, ответил Мишка.
Галя тяжело дышала, напряжённо слушала.
– Ей лет… лет… сорок, высокая-высокая, вот здесь и то ей, пожалуй, надо сгибаться, – показал Мишка на небо…
Галя облегчённо вздохнула и поцеловала возлюбленного.
С адресом на руках Галя собралась завтра выехать в Оренбург для договорённости с Голощаповой, а сейчас пошла погулять по берегу Урала, где часто проезжали Веренцовы с молотьбы. Они возили хлеб в амбары. Мишка подладился приезжать верхом каждый вечер. Если приезжал днём на подводах с хлебом, а Галя ходила по берегу, он бросал на дорогу записку. Галя брала, в записке были время и место их встречи вечером.
И с Гнедым Галя завела знакомство. Он не возражал, когда Мишка подсаживал Галю верхом, а сам водил коня в поводу. Спокойно и весело было на душе у обоих.
Она надеялась договориться с Голощаповой – сидеть дома, получить сразу за целый год жалованье, кто не согласится? Да ещё Галя ей что-нибудь подбросит, не оставит в обиде.
Галя будет учительствовать здесь, в станице. Наплевать ей на калужскую гимназию. Если она будет здесь, около неё будет и Мишка, а стало быть, и нескончаемое счастье.
С милым радость нестерпима,
С милым теплая земля,
Даже карканье вороны –
Лучше трели соловья…
Разгуливая по крутому берегу Урала, Галя увидела извозчика, он ехал по городской дороге, пылил своей пролёткой, где сидел какой-то господин в шляпе. Пролётка проехала далеко от Гали и скрылась. Галя не придала этому значения, мало ли здесь ездят разных дачников и начальников из Оренбурга.
Она ходила, думала о Мишке, а сердце о чём-то пугливо ныло. Она увидела торопящуюся к ней хозяйку. Галя не знала причины, но сердце уколол кто-то… Хозяйка махала рукой, подзывала к себе:
– Барыня, тебя там какой-то барин спрашивает.
Гале казалось, что у неё оторвалось сердце, волнение, смешанное с непонятным испугом, перехватило дух. Она еле шла за хозяйкой. С тоской и болью в сердце взглянула на дом Веренцовых. Как будто вели её на казнь, и она в последний раз смотрела на вольный свет, который сейчас казался стократ милей и прекрасней.
«Ну кто же это? – спрашивала себя Галя. – Муж? Но он убит ещё в четырнадцатом. Кто-нибудь из знакомых? Не может быть, никому я не писала… Папа? Нет, он работает. Уф!»
– А молодой он, хозяюшка, или старый? – дрожащим голосом спросила она.
– Да молодой вроде. Да я и не посмотрела, как следует, – ответила та.
Оставался один квартал до квартиры. Вот сейчас будут видны хозяйские ворота, около которых – извозчик и нежданный гость.
Когда прерываются какие-либо сильные стремления или страсти, то ставшая этому причиной встреча с самым близким становится безрадостной. Состояние было такое, что лучше бы не ходить туда, а вернуться и уйти куда-нибудь далеко-далеко, в поле, там есть надежда увидеть Мишу, а здесь?.. Как будто шла она на суд, к тяжкой каре. Ноги заплетались. Наконец вошли в улицу, откуда стал виден извозчик около хозяйского дома; но где же барин?
Вдруг сзади кто-то закричал: «Галечка, Галечка, милая!»
С выступившими на лице бисеринками пота Галя оглянулась – к ней подбегал вышедший из-за угла отец. Она необъяснимо боялась приезда мужа и только тут облегчённо вздохнула и бросилась на шею отцу.
– Галечка, как я рад, что ты здорова. А ведь ты нас с мамочкой совсем перепугала. Мамочка почти не спала, всё просила меня скорее поехать за тобой. А ты как хорошо пополнела, так хорошо выглядишь, – целуя дочь, радовался Борис Васильевич.
Галя смутилась, покраснела, простодушные слова отца показались ей двусмысленными.
– С тех пор как хозяйка пошла за тобой, мне показалось, много прошло времени, и я пошёл навстречу, тем более был рад, что пошла гулять, из чего можно было заключить, что ты здорова, – радовался отец.
Подошли к воротам. Галя попросила отца обождать, пока она осмотрит квартиру, – в полном ли она порядке для встречи отца. Она боялась возможных следов мужского пребывания.
Борис Васильевич охотно согласился, предложил извозчику попросить разрешения хозяев заехать во двор, передохнуть, закусить.
Галя всё больше радовалась приезду отца. Она была уверена, что Мишка отцу понравится.
В квартире отец ещё раз поздоровался с дочерью. За обедом Галя угостила отца ликёром, на что он шутливо обратил внимание: «Кому приготовила? Уж не сама ли стала пить?» Галя отшучивалась, краснея.
После рюмки ликёра голова у Гали пошла кругом, о чём-то тосковало сердце. Она решила разом сбросить тоску, рассказать отцу всё. «Сегодня или завтра, а говорить нужно», – думала она и тут же, как бы шутя, сказала:
– Папочка! Я уж совсем не хочу отсюда уезжать домой.
– Надеюсь, это и была причина болезни, – заметил отец. – Боже мой, уж не влюбилась ли ты здесь?
– Да, папа, – лаконично, всё с той же шутливой интонацией ответила она.
Борис Васильевич замкнулся, задумался. Галя просила извинения. разговор не вязался до самого вечера.
Борис Васильевич чувствовал себя как бы обиженным, но не хотел пытать дочь. Чтобы рассеять неприятное впечатление, заменить его приятным, даже радостным, как рассчитывала Галя, она решила как можно скорее показать отцу Михаила. Она помнила о расположении отца к казакам.
С наступлением сумерек Галя сказала отцу, что должна сходить в одно место. И пошла за станицу, где в последнее время по вечерам ожидала Веренцова, а он подъезжал верхом, спрыгивал с коня, и уходили они далеко в степь.
Сегодня Галя хотела, чтобы Мишка пошёл с ней к отцу. Она радовалась предстоящему исходу смотрин.
3.
Было ещё совсем светло, когда Мишка гнал с поля коней по случаю субботнего дня. Мишка заметил, как в ворота Галиной квартиры вошёл какой-то барин. Как горячим банным паром хватило Мишку с ног до головы: «Или муж, или хахаль из здешних господишек. Сейчас бежать туда нельзя, приходится ждать сумерек».
Бессильно злясь, он нажал на коней, как будто они виноваты, что к Гале пошёл хахаль и поймать его там нельзя. Кони столпились у ворот, лезли, давили друг друга и, проскочив во двор, пробежали далеко в сарай и робко смотрели оттуда.
Ужинать Мишка не хотел, ждал сумерек, чтобы пойти и прихватить у Гали соперника, пока тот не ушёл.
Смеркалось. Мишка зашёл с заднего двора. Во дворе вглядывался в каждый угол – не стоит ли там с кем Галя? Подошёл к крыльцу – дверь в сени открыта. Сбросил башмаки около крыльца, прошёл в чулках по сеням до комнатной двери, она открыта. Около раскрытого окна, спиной к нему, сидел мужчина, света в комнате не было. Мишка попятился в сени, вышел на крыльцо.
«Значит, она рядом с ним сидит, только против окна видно его, а она – против простенка. Муж или хахаль?» – подумал весь вспотевший Мишка. В висках стучало, от злобы и ненависти он дрожал, как в лихорадке. Снова зашёл в комнату. Ему казалось, что он отчётливо видит Галю: она сидела рядом с мужчиной, против простенка и держала его руку на своих коленях.
Только сейчас Мишка сердцем почувствовал жгучую ревность, которую раньше не замечал за собой. Только сейчас он горячо почувствовал безмерную любовь к Гале. Нет, он не мог отдать её в руки другого, в руки соперника. От бешеной ревности в горячей Мишкиной голове появилось: убить его!
За окном закричала Галя: «Папочка! Вы, наверное, ругаете меня?
Как будто проснулся Мишка ото сна или очнулся от припадка. Фигура Гали, сидевшей у простенка, вмиг исчезла. Мишка ясно представил обман мыслей и мишуру иллюзий. Попятившись назад, он вышел в сени без звука.
Появившаяся с улицы в воротах Галя, увидела его, тихонько подбежала, обняла, поцеловала.
Мишка молчал, говорить он не мог.
– Что с тобой? Милый… Ты весь дрожишь… – спросила, всматриваясь в него, она.
– Это кто там сидит? Не хахаль ли? – еле выдавил казак.
– Да это же папочка! В гости ко мне приехал, – неудержимо целовала она Мишку. – Ну успокойся, мой родной, – радовалась Галя, что у возлюбленного колыхнулась ревность. – Да ты почему же в чулках? Ну успокойся, мой желанный, я понимаю тебя, – упрашивала Галя, не замечая брошенных у крыльца башмаков.
Мишка молчал, тяжело дышал. Состояние было такое, когда человека прерывают, не давая закончить необходимое дело.
– Ну успокойся, – повторяла Галя, – вот тебе задание: сходи домой, обуйся и приоденься, немного успокойся и сейчас же, сейчас же приходи, а я этим временем приготовлю кое-что. Иди! Только скорее вернись, не заставляй меня плакать, ожидая тебя, – провожала до ворот Мишку Галя.
Мишка в каком-то полузабытьи почти не слышал её слов, не понимал их.
Проводив Мишку, Галя убежала в дом. За воротами Мишка увидел себя в одних чулках, вернулся к крыльцу, надел башмаки, побрёл, как пьяный, домой. Болела голова. О чём он думал в этот момент, он не знал, не мог припомнить и после.
Дома машинально надел сапоги, брюки, фуражку и наборный ремень. Он всё же сознавал, что идёт на смотрины. У зеркала расчесал всклокоченные волосы, поправил набок фуражку.
4.
Вернувшаяся Галя быстро зажгла в комнате свет, поцеловала отца, собрала на стол.
Борис Васильевич понял, что должен прийти кто-то из Галиных подруг. Те слова, сказанные при встрече, не выходили из головы. Он терялся в догадках. Галя, калужская красавица, приехала в деревню и вдруг втюрилась, как «оглобля в кузов». «Не может быть, – думал отец, – вот сейчас придёт кто-нибудь, и я постараюсь расспросить».
Галя налила отцу чайный стакан ликёра. Борис Васильевич отказывался, но дочь упросила. Вслед за первым налила второй, а если, мол, скучно одному пить, то я позову хозяина или их взрослого сына, который только что приехал с поля.
Борис Васильевич согласился. Галя выскочила за дверь, чтобы подтвердить слова о хозяйском сыне. Минуты тянулись, Мишка задерживался.
Борис Васильевич спрашивал: скоро ли?
Наконец Галя услышала, как ворота тихо открылись. Она вышла во двор.
– Миша, ты не стесняйся папочки, он очень хороший. Мы пока не будем говорить ему о нас. Я тебя пока рекомендовала хозяйским сыном.
Мишка в волнении не понял сказанного Галей: «Какой хозяйский сын? Что она говорит? Пока не будем говорить о нас… Ему и никогда-то не нужно говорить».
– Я сейчас войду, а ты – через минуту, – добавила, целуя Мишку Галя. – Только не забудь, милый, мы не должны до времени выдавать себя.
Мишка махнул рукой вслед вошедшей в дверь Гале. Минуту обождал.
Борис Васильевич услышал шаги в сенях, взглянул на приоткрытую дверь. Смелым рывком, без предупреждения кто-то широко открыл её.
Разница между вошедшим и теми, кого Борис Васильевич когда-то встречал в Вышнем Волочке, была лишь в отсутствии у этого голубых лампасов на брюках да в его молодости. Бросалась в глаза фуражка с ладным лакированным козырьком, плотно прилёгшим ко лбу. Фуражка с голубым околышем придавала Мишкиному лицу особую прелесть. Левый висок прятался под чубом, покосившим фуражку на правый бок.
Мишка сказал одно слово: «Здравствуйте» и, смотря исподлобья, встал у порога чуть ли не боком к Борису Васильевичу.
Галя замерла, счастливая, улыбающаяся.
Борис Васильевич пошёл навстречу. Мишка пожал его протянутую руку и снял фуражку.
Борис Васильевич, не выпуская гостя, повёл его к столу, приобняв за плечо.
Неравнодушие Гали было очевидно, она бегала вокруг отца и Мишки. Хотелось сесть рядом с женихом, как она его сейчас воображала, обнять его, поцеловать… Села подальше от обоих. Сейчас же Мишке налила ликёра. Мишка выпил, не ожидая Галю, и подмигнул ей. Он скользил взглядом по отцу своей любимой. Борис Васильевич был дородный, элегантно одетый красавец. Мишке он очень понравился.
Угощая его, Борис Васильевич спросил:
– Вы только сейчас приехали с поля?
– Нет, я с поля давно, – сказал, закусывая, Мишка и подумал: «Хватился, – только приехал, – я все дела уж переделал и тебя чуть к праотцам не отправил, ладно ещё, Галя…»
– А мы вас ждали-ждали. Галечка сказала, что вот-вот приедете, а вас всё нет и нет. Отец ваш тоже дома? – спросил Борис Васильевич.
– Нет, отец приедет утром, остался ток караулить.
Галя подавала ему какие-то знаки, но Мишка думал: «Э-э-э, не моргай, это она просит, чтобы я пил больше. Вот ещё тоже баба, всегда ей хочется, чтобы я больше пил, как будто я не знаю, сколько нужно пить».
Борис Васильевич спрашивал Мишку о военной службе, скоро ли он будет мобилизован, о хозяйстве.
Мишка рассказывал об отце и братьях, о казачестве и его традициях. Здесь же проговорился о том, что в течение предстоящей зимы должен закончить подготовку на курс вольноопределяющегося по общеобразовательному цензу, с этим старший брат его припирает к стенке.
После этих слов Галя хотела подойти к нему, расцеловать и тут же объясниться отцу, не скрывая даже своих матримониальных перспектив, уж очень весело и отрадно было на душе от выпитого, но Галя побоялась Мишки. «А вдруг он встанет, – подумала она, – скажет: “Да с чего ты это взяла? Так твою перетак…” Ведь от этого медведя всего можно ожидать. Как только он уйдёт, всё расскажу папе».
– Да, при вашей комплекции, наружности и воспитании я вижу вас через некоторое время не заурядным кавалеристом, прекрасно владеющим только шашкой и пикой. Желательно увидеть вас настоящим, служившим службу казаком. Когда будете возвращаться с фронта, куда вы, пожалуй, через годок попадёте, то я и Галя просим заехать к нам в Калугу, – рассмеявшись на последних словах, сказал Борис Васильевич.
– Постараюсь, если дыр мало в голове будет, – весело сказал Мишка, – но при условии, если Галина Борисовна до того времени не выйдет замуж.
Борис Васильевич подозрительно посмотрел на дочь и рассмеялся.
– Нет, нет, – сказал он, – не выйдет.
Огнём жёг этот разговор захмелевшую Галю. А последние слова окончательно выбили её из колеи, она подошла к отцу, поцеловала его и заплакала.
Мишка покраснел, как будто попался с поличным. Борису Васильевичу всё стало понятно, но он старался не подать виду и не стал спрашивать её о причине слёз, боялся, что дочь скажет такое, что ему станет стыдно перед этим молодым человеком. Он сказал ласково и тихо:
– Дочка, иди ляг, отдохни, а мы ещё немного посидим.
Галя уходить не хотела.
«Надо скорее сматываться, – подумал Мишка, – а то ещё ляпнет что-нибудь, тогда – не знай, передом выходить, не знай задом. Вот ведь какая, немного выпьет – и повело».
Мишка стал вставать, Галя не пускала. Мишка стал прощаться с отцом Гали, она не позволяла прощаться. Наконец Борис Васильевич попросил отпустить Михаила Степановича, так как хочет поговорить с ней. Он простился с Мишкой, крепко и долго жал ему руку.
Борису Васильевичу не хотелось расставаться с Мишкой, этот казак захватил, приковал к себе, но нужно было разрядить атмосферу, помешать неуместным откровениям дочери. Он хотел объясниться с ней по горячим следам. Мишку он просил прийти на следующий день, напомнив, что завтра праздник.
Галя хотела проводить Мишку, но простилась у сенной двери и быстро вернулась.
Мишка вышел к воротам, постоял и пошёл искать Паньку, думая: «Вот ведь какая, шут её взял, меня просила не говорить, а сама расписала почти всё».
В квартале он встретил Надёжку с подругой и ушёл с ними на вечёрку.
Вернувшись из сеней, Галя попыталась лечь, но отец позвал её. Галя села к столу.
– Дочка, объясни, не скрывай ничего, – сказал он, ласково, несколько сбоку взглянув ей в глаза и погладив руку.
Разгорячённая Галя без смущения стала рассказывать всё, что знала о родственниках и самом Мишке. С особым нажимом остановилась на старшем брате, уверяла отца, что если бы он увидел старшего сына Веренцовых, то невольно пошёл бы за ним, ища дружбы, а Михаил, по её мнению, превзойдёт брата, за это она ручалась. В конце концов Галя сказала, что если бы даже и раньше пытались ей доказать несостоятельность партии с Веренцовым, всё равно это было бы уже поздно.
Теперь одна её цель и просьба к отцу, чтобы он помог ей увезти Веренцова с собой в Калугу или позволил бы остаться здесь, другого выхода уже нет. Кроме того, Галя подчеркнула, что не сомневается в том, что отец никак бы не возражал против её решения, если бы знал более подробно Михаила и его семью.
Отец молчал. Галя думала: «Ах, какое это скучное занятие – объяснение ясного! Ну зачем я не пошла проводить Мишу? Он теперь дома так скучает. Я готова ходить с ним всю ночь. Если бы он позволил бывать на их вечёрках или посиделках».
Борис Васильевич внимательно выслушал дочь. Веренцов ему нравился. Но как изменить слову, давно уже данному двум-трём калужским женихам, которые просят подействовать на дочь. К тому же все как на подбор: и знатные, и богатые, и молодые. «У этого когда-то будет положение, а у тех уже есть. Правда, дети… любо будет посмотреть, но ведь они люди-то какие – не удержишь его в Калуге: сбежит и дочь увезёт, а мы опять останемся одни. Он в своём-то Оренбурге и то не будет жить, так и будет тянуть в свою станицу. Ему хоть генерала пожалуй, всё равно предпочтёт плуг в руках да скакать по полям, чем гулять с дамой по городу. Город-то для них, чтобы лишь попьянствовать, нахулиганить и попасть в полицейский участок или ускакать домой без шапки и без колёс. Ах, Боже мой, как бы отговорить её хотя на время».
– Так вот, дочка, – начал он, – я полностью разделяю твоё решение, не возражаю против твоего выбора, но вот дело в чём, ты подумай: время сейчас военное, Михаил Степанович может быть взят на фронт во всякую минуту. И если будешь здесь, то рискуешь оказаться в такой скуке, что с ума сойдёшь, а к нам выехать и родители Веренцова не позволят, и ты не захочешь их обидеть. Я могу согласиться на твою жизнь здесь лишь в том случае, если ты сейчас же, при мне, войдёшь в дом Веренцовых. И второй вариант: если даже и согласится он сейчас поехать к нам в Калугу, то он раньше, чем доедет до Самары, уже начнёт оглядываться назад, а туда, в Калугу, приедет и заскучает с первого же дня. Обожди-обожди, дай договорить, – остановил он рукой Галю, начавшую было возражать. – Ты его, дочка, ничем не забавишь. Ты думаешь его какой-нибудь оперой заинтересовать? У-у-у… Ему конь нужен для поля. Они согласны обливаться потом и дышать знойной пылью на сенокосе, пашне, молотьбе, чем сидеть, ничего не делая, в городе. Если почему-либо приходится задержаться в городе больше чем на сутки, то они там начинают пьянствовать, хулиганить или скучать до слёз. Такие они люди, дочка. Они совсем другого устройства. Ну, а самое главное – то, что у нас его захватит мобилизация, тогда поминай как звали. Ведь он в кавалерийскую-то часть ни за что не пойдёт, если она не казачья, а уж если в пехоту, то он тут же застрелится, но не пойдёт… или нас всех перестреляет… Да ты не смейся, Галя, честное слово, были уже такие случаи. Я их ведь хорошо знаю. Они насколько забавные, настолько и опасные. Один выход, самый верный: договориться, что он приедет к нам прямо с военной службы, если будет скоро взят, а если война скоро кончится, а он взят не будет, кроме как на действительную службу, как у них говорят, а их берут в двадцать один год, то я весной сам поеду за ним и привезу, если на это будет его согласие. После нашего отъезда он скорее даст согласие поехать к нам, так как заскучает, если верить твоим доводам. Как ты на это смотришь? – говори теперь.
Галя думала. Слёзы ей застилали глаза, а в воображении сменялись картины, нарисованные отцом. Мысли путались. Самым страшным было представить горькую скуку в стенах своего дома в Калуге, когда Миша где-то далеко, гуляет с девушками, отвыкает от неё, и она по своей же вине, по своей нерешительности теряет его навсегда.
«Самое надёжное – это увезти его с собой, но как это сделать? Ведь нет ещё его согласия, ещё нет ничего определённого, как говорить с отцом», – маялась она.
– Папа, – сказала она, – я знаю, вы только помочь мне хотите, сделайте так, чтобы я с ним не расставалась, я просто не могу, иначе не могу. – Галя поцеловала отца в лоб, прежде чем уйти к себе.
Полагаясь во всём на отца, Галя и не заметила, что внутренне сдалась. Первую позицию оставляешь шагом, с последующих бежишь бегом. Если бы Галя могла слышать, каким погребальным звоном для её планов прозвучали её последние слова. Отец знал теперь, что увезёт дочь домой, без сомнения.
5.
Гале не спалось. От всего недавнего было невыносимо тяжело, она не могла собраться, чтобы обдумать всё по порядку. Теперь она думала о том, что Мишенька один, скучает дома и вряд ли заснёт до утра.
Она едва уснула к свету и как будто тут же проснулась. Было уже утро. Звонили к обедне. Хозяйка объявила, что завтрак будет готов через полчаса. Галя решила пока сходить на берег Урала, может быть, увидит Мишу, может, сумеет бросить ему записку, в которой писала: «Ещё лучше, если днём, а вечером-то обязательно приходи, как можно раньше. Беспокоюсь о твоём здоровье после выпитого вечером, и не покидают меня мысли о том, что ты скучал всю ночь. Целую. Г.»
Мишка и Панька высоко сидели на куче брёвен у веренцовского двора, наперегонки позёвывали и терли глаза. Они вместе не спали до утра.
Панька первый увидел Галю, когда она во второй раз проходила по яру, вскользь поглядывая в их сторону.
– Чья это госточка ходит? Столько время не уезжает, почти все господа уехали, а её чёрт клещщами прижал… У ково она квартирует, ты не знаешь, Мишка? – спросил Панька. – Это никак та самая, которая тогда у двора сидела, помнишь?
Мишка на мгновение взглянул и с напускным равнодушием ответил, искусственно позёвывая:
– А откуда я знаю, у кого квартирует, а у двора-то сидела, говоришь, то где помнить, все они сидят у двора.
Галя была замечена Панькой, Мишка уже не мог подойти к яру, оставив друга. Галя поняла это и, пройдя два раза, ушла домой. Записка осталась непереданной.
На крыльце она застала отца, ожидающего её к завтраку. Смотря на жизнь трезво и просто, он решил уговорить Галю уехать через два-три дня. Весь сегодняшний был болезненно натянут. Отец искал более убедительные аргументы для скорейшего отъезда, а Галя весь день ждала и ждала Мишку, но он не шёл.
Борис Васильевич знал, что если Михаилу предложить поехать с ними вместе, он откажется сразу же, поэтому можно заводить этот разговор без боязни. При отказе поездку Веренцова в Калугу отложить на более дальний срок, а там Галя забудет, окружённая подругами и весельем. На этом и кончится всё.
Пришёл Мишка. Встретив его радушно, Борис Васильевич мало-помалу заговорил о своём и Галином отъезде, прозрачно намекнул, что хотел бы видеть Михаила Степановича у себя в Калуге, сейчас же, на положении зятя.
Мишка хотя и учтиво, но наотрез отказался: у него уже всё готово для военной службы, конь откормлен и обучен, даже на бегу ложиться умеет, седло со всем с прибором с иголочки, шашка новая, блестит, как зеркало, они уже со своим другом Павлом выезжают чуть не каждое воскресенье в поле рубить татарник, изображающий лозу, там же они учатся джигитовке. Не успев закончить, Мишка увидел Галю бледной, как воск. Он взял Бориса Васильевича за руку и стал упрашивать не увозить Галю домой:
– Через неделю, по моим расчётам, я получу ответ от старшего брата, в котором он должен просить отца и мать взять Галю снохой в дом. Я об этом просил брата, он для меня это сделает. Родители во всём его слушают, даже как-то его побаиваются. Я ему всё описал о себе и о Гале, ответ от него будет обязательно хороший.
Галя повеселела, но Борис Васильевич знал, как вести дело. Он стал упрашивать Михаила не возражать против отъезда Гали, даже дал слово, что когда согласие родителей будет получено, то Михаил приедет в Калугу, где Мазорцевы ликвидируют своё предприятие, продадут два своих дома и переедут всей семьёй в Оренбург. План его понравился юной паре. Ни Мишка, ни Галя не смотрели далеко.
Борис Васильевич торжествовал.
Отъезжать решено было через два дня. В Оренбурге нужно было сфотографироваться по одному и вместе.
Недосыпала, пылила, жарилась на солнце страда. Степан Андреевич, не зная Мишкиной нужды быть в Оренбурге, послал его на дальнее поле обмолачивать хлеб нанятому человеку.
Мишка еле успел прискакать на коне в станицу в день отъезда Мазорцевых.
От слёз Галя не могла говорить, она выплакала всё и потому уже рыдала, судорожно вздрагивала всем телом до самого момента отъезда.
На прощанье она могла лишь сказать, глядя в покрасневшие глаза Мишки:
– Буду ждать тебя… до смерти. Или искать…
– Галя… – вдруг прозревая, тихо сказал Мишка, – если и женят меня, ты одна у меня жена. Никого у меня больше не будет.
Оба говорили правду. Мишка надеялся на письмо брата, которое, по его мнению, должно было решить его судьбу. Но не знал Мишка пути своего письма, которое передал «надёжному» человеку, другу, чтобы тот опустил его в почтовый ящик в Оренбурге. Друг письма не опустил, а прочитал и спрятал, чтобы в нужный момент показать Надёжке, на которую заглядывался и мечтал на ней жениться. Не знал и друг Васька, что роет могилу своим мечтам, что письмо, дошедшее до адресата, могло бы устранить самого опасного противника на Васькином пути к Надёжке. Мишка бы освободил путь, уходя к Гале.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ
1.
В первый же вечер одиночества Мишка почувствовал, как тяжела разлука. День ото дня он всё больше не владел собой. Он теперь понял, как могут зажать в клещи речь, ласки, обращение – всё, чем так отличалась Галя от станичных девушек, особенно от Надёжки.
Он пытался завязнуть в учебниках, которые привёз брат и требовал отчёта об учёбе. Но тоска глодала сердце, он не находил себе места. Ночами метался в постели, вставал и украдкой шёл к дому, где квартировала Галя, садился около ворот против Галиной квартиры и смотрел на то окно, через которое в первый раз попал к ней. Смотрел на ворота, в которые она входила и выходила, на ту скамейку у ворот, на которой Галя часто сидела, таясь, подходил к этой скамейке, подолгу сидел на ней. Кружил за станицей по тем местам, где они были с Галей, ходили под ручку, где сажал он Галю на коня и водил его в поводу, а она весело хохотала. А когда принимал её с коня, она долго висела у него на плече, не хотела опускаться на землю, а он её нёс и нёс без устали; выходил на берег Урала, смотрел на то место, где она купалась, где он поднимал брошенные ею записки. Ему казалось: а может быть, каким-нибудь чудом одна из записок осталась не замеченной тогда и до сих пор лежит на земле. Но на земле ничего не было. Он вспоминал каждую подробность встреч с ней.
Бывало, сидя ночами напротив Галиной квартиры, Мишка прятался от проходивших мимо, ничего не подозревавших людей. Иногда вздрагивал от какого-то женского голоса, издалека похожего на Галин: звонкий, серебристый, необыкновенный. Он часто слышался ему среди разговоров хозяев во дворе Галиной квартиры. Он подбегал к воротам, смотрел с улицы в щёлку, но на дворе никого не было, хозяева давно спали.
Возвращался домой разбитый, истерзанный горем и тоской, шатаясь, как пьяный; ложился спать и слышал стук в ворота, в окна, в дверь, слышал шаги под окном. Вскакивал, выбегал на улицу, но там никого не было, лишь могильная тишина и пустота. Тогда он раздражался безутешным плачем и засыпал в слезах.
Если бы ему сказали, что однажды в детстве он тосковал так же, он, скорей всего, удивился бы. Но ни для радости, ни для горя возраста нет…
И в свою рощу несколько раз ходил Мишка. С глазами, полными слёз, стоял около куста, где впервые встретил барскую дочь, где убирал листочек с её груди, где впервые увидел её руки, белоснежное, не мятое, как сама девственность, платье.
Тоска, галлюцинации лишили его сна, аппетита. Как когда-то в детстве, он заболел, и опять у него была горячка. Он пролежал около месяца.
2.
После выздоровления прошёл ещё месяц, и Мишка полностью пришёл в себя. На полях уже пахали, готовили зябь. Наступала осень.
Однажды, катаясь верхом по своим степям, Мишка въехал на высокую гору, с которой далеко открывались киргизские степи, усеянные пасущимся скотом. Группами и в одиночку виднелись разбросанные юрты. Мишка знал, где расположена юрта знакомого киргиза Кулумгарея, до неё было вёрст пять.
Не раздумывая долго, Мишка в карьер поскакал под гору, направляясь к Бердянке, чтобы переехать на киргизскую сторону.
Через полчаса он подъезжал к юрте Кулумгарея. Две огромные собаки выскочили откуда-то и с диким лаем понеслись Мишке навстречу. Около юрты, встревоженные шумом, соскочили два телёнка, привязанные за верёвочки, и в недоумении потягивались. Собаки стали прыгать на коня, хватать за губы.
Из юрты вышла жена Кулумгарея, молодая, полнолицая, черноглазая киргизка. На ней было широкое с массой оборок белое с цветами платье и разноцветные башмачки, на голове громадный белый платок, покрывавший голову не углом вдвое, а квадратом в одну рядь, край платка зашпилен под подбородком. И платок, и платье засинены настолько густо синькой-ультрамарином, что их цвет из белого превратился в цвет неба. Весь наряд был безукоризненно чистый.
Поверх платья надет расшитый позументами цветной бархатный, очень короткий жилет с массой серебряных монет на груди. Ниже платья, до ступней, ноги закрывали широкие ситцевые шальвары.
Выбежавшая женщина, которую Мишка хорошо знал, закричала на собак: «Кэт, кэт» и грубо выругалась по-русски.
Мишка рассмеялся, расхохоталась и киргизка, показав красивые зубы. Собаки виновато склонили головы, облизываясь и ворча, разошлись в разные стороны.
– Ай, Мишка, здрастуй! А Кулумгарейка дома нет, – закричала она. – Зачем гармонь не тащил? Так-перетак, – ругалась красавица.
– А где же он? – спросил Мишка.
– На гостя пошёл. Шорт, собака, совсем далеко пошёл. Неделя, два, тогда придот. Шорт с ним, айда кибитка…
Мишка не сходил с коня, думал: «Куда же мне теперь поехать? Кулумгарейки нет, поговорить не с кем».
Тем временем хозяйка кибитки уже вырвала повод коня и тащила Мишку с седла за брюки, захватив их с телом.
– Ай, пожалуйста, Мишка, айда кибитка. Кулумгарейка узнает: ты не пошёл кибитка, бить меня будет, скажит, звать не умела, – пересыпая слова матерщиной, старалась блеснуть знанием русских слов Балкуныс.
Ветер рванул на голове туземки платок и перекинул через голову, обнажив шею. Будто из чёрного шёлка, эластичные кольца волос украшали смуглую шею Балкуныс. Две огромные косы, как две тройки переплётшихся чёрных змей, зигзагами извивались по спине, заканчиваясь ниже пояса. А там рисовались полные ноги, обтянутые тонким ситцем, прижатым к телу ветром. Балкуныс забросила платок через голову, подняла лицо, пожирала Мишку глазами.
Чёрные, тонкие, высоко поднятые брови огибали угли глаз с синеватыми белками. Пухлые губы обнажали два ряда белых, как сахар, ровных и мелких зубов. Лицо Балкуныс не было скуластым. Ни чертами, ни бледно-розовым цветом кожи Балкуныс не походила на своих соотечественниц.
Глаза женщины умоляли казаки сойти с коня и побыть в юрте, где Балкуныс, юную, цветущую, гложет непонятная истома одиночества, где она сгорает, прежде чем заснёт от какой-то непонятной страсти, приходящей к ней вслед за скрывшимся солнцем.
Балкуныс снова выругалась и продолжала тащить Мишку за ногу с коня. Мишка смотрел на неё сверху вниз, обмерял глазами с ног до головы. А невидимая иголочка покалывала где-то под ложечкой… Мишка вспомнил Галю. На сердце стало тяжело, и стыдно, как будто Галя была где-то здесь и смотрела укоряюще на него. Он тронул поводья, чтобы ехать.
– Нет, Балкуныс, я поеду, мне надо ещё заехать в одно место, я опоздаю, отец ругать будет.
Балкуныс чуть не со слезами просила:
– Кулумгарейка совсем меня ругайт будет, бить будет, если не пойдошь на гостя. Скажит: «Мишка приезжал, а ты ничего не давал, шай не давал, махан-мясо не давал, што потом будет?»
Мишка знал обычай киргизов. Действительно, если не зайти в юрту, то Кулумгарей изобьёт свою жену, а с ним год не будет разговаривать.
Он спрыгнул с коня. Собаки, как окаменелые, лежали, не шевелились, наблюдая исподлобья. Балкуныс опрометью побежала в юрту. Мишка вошёл вслед за Балкуныс. Его обдало непривычным запахом копоти с перепрелым чёрным чаем.
Балкуныс постлала на пол кошму, положила на её край подушки, предварительно их взбив.
– Садыс, Мишка. Я шай таскаем. Ах, так-перетак, зачем гармонь не таскал? – Мишка смеялся, мерил её взглядом. Принесённый с очага чай Балкуныс стала разливать против Мишки, сев на корточки, подол платья убрала до пояса, нисколько не смущаясь, – чтобы не мешал. Мишка отвернулся и рассмеялся. Туземка спросила о причине смеха. Он ответил:
– Вот Кулумгарей узнает, что я был у тебя в гостях, тебя и меня побьёт.
Балкуныс по-мужски свистнула:
– Ха, шорт, собака. Если ты на меня ночь будэшь спайт, и то Кулумгарей сапсем не ругайт. Яй буга, не ругайт, – сверкнув чёрными глазами, с детской улыбкой сказала Балкуныс.
Мишка смущённо замолчал, не отвечая.
Через несколько минут Мишка встал и начал собираться, прощаясь с хозяйкой.
Балкуныс провожала гостя и гладила ему руку и плечо. Около коня сказала:
– Мишка, не надо уезжай, сиди на кибитка, а я буду махан варить.
Мишка отказался, он спешил. Глаза Балкуныс то возбуждённо горели, то выражали страдание.
Когда Мишка сел уже на коня, Балкуныс стала просить взять её с собой в станицу на этом же коне, посадив верхом сзади, но Мишка ответил, что едет не в станицу, а на поле, и тронул поводья. Балкуныс шла рядом шагов сто, держала его за руку, потом хлопнула ладонью по коленке, отстала.
Мишка несколько раз оглядывался. Балкуныс стояла, как окаменелая. Он погнал в карьер.
С тяжёлой грустью на сердце и непонятным волнением и досадой от прерванного утешения Балкуныс стояла лицом на запад и сквозь застилавшие глаза слёзы смотрела, не моргая, на удаляющегося всадника.
Вдалеке огнём горела светлая вода большого лимана Бердянки. Красные блики заходящего солнца отражались в этой воде, уступая огромное место голубой небесной дали, расплывшейся в этом прозрачном лимане.
Изваянием стояла красавица Балкуныс, прикованная к земле. Она ничего не видела и не слышала, не замечала, что вокруг темнело. Потом как будто очнулась от тяжёлого сна и, вздохнув, поплелась в юрту.
Её родной дом – степная юрта, уже не только не манила её, а была противна, скучна, неуютна. Её кто-то звал на запад, туда, за горизонт, где скрылся на коне молодой казак Мишка. Сердце тянуло в его объятия, которые Балкуныс ещё не познала по настоящему со своим старым мужем.
Она вошла в юрту, остановилась у двери. Слёзы до краёв заполнили глаза и потекли на холодные щёки.
Сегодня в юрте было как-то особенно темно и тоскливо. Томил непонятный запах безволья и гнёта. Балкуныс подошла к разостланным одеялам и подушкам, на которых лежал Мишка. В верхней подушке вмятина. «Вот здесь лежал он сам, а здесь была его голова». Комок горечи подкатил к горлу. Балкуныс, не раздеваясь, упала на эту постель, лицом на вдавленность в подушке. Её забила нервная дрожь. Слёзы текли по щекам потоком. Она не слышала, как кричали телята, просили вечернего пойла, время которого уже прошло. Она не помнит, когда уснула. Ей снилось: на коне подъехал к ней Мишка, она сидела одна на зелёной траве около юрты. Мишка обнял её и долго держал в своих руках, потом подарил ей какой-то подарок, которому она была до безумия рада, но рассмотреть его не успела, проснулась.
Солнце уже стояло высоко над горизонтом, его прозрачные сентябрьские лучи падали внутрь юрты через отверстие в куполе, служившее дымоходом. Балкуныс тяжело дышала, всё тело болело. Ей не хотелось переходить к горькой действительности, хотелось продолжать сон, хотелось получить от Мишки ещё что-то, хотелось смотреть на Мишку без конца. Но капризна явь, не выполняет она наших желаний…
Тяжёлыми шагами, как больная, Балкуныс вышла из юрты и первый взгляд бросила на запад, левее Родниковского холма, где за горизонтом скрылась вчера чёрная точка. Балкуныс на пальцах стала считать, сколько дней осталось до русского праздника – воскресенья. Уезжая, Мишка сказал, что приедет в воскресенье, хотя и не думал приезжать, а сказал для того, чтобы Балкуныс его не задерживала и отпустила с миром.
По дороге от Балкуныс Мишка думал: «Да разве можно с ней было хотя бы пошутить? Она Кулумгарейке всё расскажет, да ещё приврёт, а он приедет к нам и всё расскажет, да ещё от себя приврёт, ну, тогда от стыда вешаться беги. Вот ведь они, бабы, какие черти. Вот и Галя чуть меня не порешила. Сейчас немножко будто отвалило, да и то из головы не выходит, а тогда – ну чуть не сдох. Сроду не знал, что так люди могут тосковать, а вот теперь поверю…»
3.
Прошло две недели. Мишка уже забыл о своём обещании быть на праздник у Балкуныс. Приехав домой с поля, он стал входить в ворота. Посреди двора, широко расставив ноги, со злобным видом стоял Кулумгарей. Мишка подумал: «Наверно эта что-нибудь разболтала, расхвалилась, да ещё приврала, ну, он и сердится».
– Здрастуй, Мишка, –– сказал Кулумгарей и как-то недружелюбно сунул Мишке свою руку. – Зашим обманул Балкуныс? Зашим не пришёл на гостя на праздник? Балкуныс сапсем плачил, ждал, а ты не пришёл, собака. Балкуныс махан варил, конфет купил, ждал тебя, а ты обманул. И гармошка не тащил. Я только чара[16] пришёл домой.
– Ладно, ладно, Кулумгарей, не ругайся, отец не пустил, его ругай. Как время будет, в долгу не останусь, приеду, и с Балкуныс спать буду, – пошутил Мишка.
– Да, да, да, спай, спай, шорт с ним, дай буг. Так её перетак, – Кулумгарей повеселел.
«Вот заразы, – думал Мишка, – да разве можно было ехать? Да они сочинили бы бог знает какую историю и ездили бы сюда, хвалились. А Балкуныске теперь хоть на глаза не попадайся. Она насуёт матушек во все места».
Чтобы не сердилась Балкуныс, Мишка решил послать ей с Кулумгареем посылок-гостинец. Он проник в сундук матери, отрезал стеклярусу аршин пять да три аршину плису, да набрал ещё каких-то побрякушек и послал с мужем. Вину свою Мишка свалил на отца, мол, он не пустил, а против Степана Андреевича Кулумгарей выступить не мог.
До безумия обрадованная, Балкуныс втайне решила отдарить Мишку так, как, может быть, никто ещё его в жизни не дарил…
Через несколько дней Кулумгарей собрался ехать в станицу в бакалейную лавку, чтобы купить разную мелочь и продукты. Балкуныс неотступно просила взять её с собой, муж согласился, и они поехали. Из бакалейной лавки Кулумгарей и Балкуныс решили заехать к Веренцовым. Степана Андреевича дома не было. Елена Степановна шла по двору, когда знакомая ей Балкуныс вбежала во двор, и первые слова, обращённые к Елене Степановне, были: «Сапсем здрастуй, пожалуста! Сапсем кароший ваша Мишка, мать-перемать…» – схватив руку хозяйки дома, ругалась по-русски Балкуныс. Она совсем было уже начала рассказывать о подарках, но ничего не подозревавшая Елена Степановна перебила ответным приветствием и весело сказала, что Мишка действительно хороший, что все его любят.
К этому времени во двор вошёл Кулумгарей и занял Елену Степановну всевозможными расспросами и поздравлениями, как будто не видел Веренцову лет пять.
Балкуныс стояла и ждала очереди, чтобы досказать о Мишкиных подарках, она несколько раз уже раскрывала рот, как рыба на песке, но Кулумгарей тараторил своё, не давая жене высказаться по существу. Не успел Кулумрагей закончить здорования, за воротами послышался голос Мишки.
Балкуныс, как ужаленная, сорвалась с места и побежала к воротам, в них входил Мишка.
– Здрастуй, Мишка! Так-перетак! – весело, не своим голосом закричала Балкуныс вздрогнувшему юноше. – Спасипа, спасипа, Мишка! – больно кароший селяу (подарок) давал, – и крепко щипала Мишку за бок.
Он покраснел и сказал ей тихо по-киргизски, чтобы она не говорила о подарке при матери, которая будет ругать его.
Балкуныс умолкла. Гости стали тянуть Мишку за руку в дом, чтобы там он поиграл на гармошке.
Елена Степановна смеялась над вольными обращениями Балкуныс с Мишкой, считая их просто детскими, с простой, детской, непреднамеренной любовью. И упрашивала сына пойти в дом и выполнить просьбу гостей.
Мишка отказывался: мол нужно ехать в поле. И сегодня не праздник, в гармонь играть нельзя, но Балкуныс и слышать не хотела, она повисла у Мишки на руке и не отпускала от себя.
Пришлось согласиться. Вошли в дом. Мишка поставил стулья гостям, взял гармонь и стал играть. Но гости сесть на стулья отказались, говоря, что им на полу сидеть удобнее, чем на стульях, и сели на пол перед хохотавшим Мишкой. Мишка играл. Балкуныс всё больше и больше улыбалась, и гости двигались по полу то взад, то вперёд. Потом Балкуныс вскочила, ущипнула Мишку за щеку и сказала мужу: «Болна кароши, так-перетак». Кулумгарей, как видно, был восхищён поступком жены, он беспрерывно хлопал супругу по плечу и другим местам, оказавшимся ближе, и повторял: «Болно кароши марджа, жена, джигит, собака, так её растак».
Мишка отказался от обеда, вырвался из цепких рук Балкуныс, убежал на улицу, где стоял запряжённый конь с бочкой для воды, ускакал на Урал, налил воды и уехал в поле другой дорогой. Он обещал Кулумгарею приехать в гости, когда будет свободное от полевых работ время.
4.
Шли дни, набирался месяц и оставался позади. Пашня под зябь была уже закончена. Почти все жители станицы приехали с полей. Осень стояла тёплая, сухая.
Мишка обещания не выполнил, в гости не поехал. Балкуныс скучала, терзалась. Пролетали недели за неделями. Жёлтое выцветшее поле наводило щемящую тоску. Балкуныс подолгу сидела у юрты, ждала.
Подули холодные, сильные ветры. В юрте холодно, неуютно. Ветер табунами гнал тучи, свистел на ветру пожелтевший ковыль, склоняясь до земли. На юг улетали перелётные птицы: гуси, журавли, лебеди, утки. Поля опустели. Скот жался к лесу, укрывался в глубокие овраги. Светлое и прозрачное солнце не грело. Морозный ветер пригнал снежные тучи, полетел мелкий, частый, а за ним – редкий, крупный, хлопьями снег. Он усеял всю землю, как фруктовый цвет в тенистом саду весной. А потом одел землю в плотный белый саван. Изумрудами сверкали снежные звёздочки ажурной, ручной работы мороза.
Скот стал на зимовку. Юрты давно сняли с кочевья, перебросили в аулы. Потянулись нескончаемые обозы на санях по дорогам, проложенным по снегу.
Веренцовы возили сено из лугов через аул. Каждый раз, проезжая мимо дома Кулумгарея, Мишка закрывался на возу тулупом, чтобы не увидели Кулумгарей или Балкуныс, от которых никакими молитвами не отговоришься: свяжут, но затащат в гости. Мишке хотелось побывать у Балкуныс, но ведь с ней можно попасть в такую историю, что стыд задушит до смерти.
Однажды Балкуныс шла с вёдрами по улице аула. Обозы с сеном тянулись из лугов беспрерывно. В общей массе шли сани Веренцовых. Балкуныс свернула в сторону от дороги и ждала, когда пройдут возы. Едущие впереди казаки что-то острое закричали по адресу Балкуныс, она рассмеялась и погрозила им кулаком, а у самой что-то кольнуло в сердце. В каждом казаке она теперь видела если и не Мишку, то что-то близкое к нему, родственное, братское. Она не только не обиделась на остроту, а, наоборот, ей была она приятна. Она жадно стала всматриваться в каждого, чтобы найти Мишку.
Мишка заметил Балкуныс, его воз доезжал до неё. Он закрылся тулупом и лёг. Вдруг послышался голос, и все возы остановились. Балкуныс узнала коня Веренцовых, бросила в снег вёдра с водой, подбежала к коню, схватила за повод.
Работник Веренцовых, шедший за передним возом, вышел вперёд.
– Мишка гиде? – спросила Балкуныс.
– Вон, на заднем возу, – ответил работник. – Ох, ты какая смазливая, шут тебя бы взял. Зачем тебе Мишка? – Но Балкуныс уже юркнула между возов, бежала к заднему возу. Работник рассмеялся, взглянув на брошенные вёдра, тронул переднего коня, поехал. «Вот как её распекло, – думал он, – и воды не надо стало. А хорошенькая киргизочка, наверное, девка. Ну и чёрт же этот Мишка, всех с ума сводит».
Пока задняя подвода стояла, Балкуныс по оглобле и по верёвке залезла на воз.
– Мишка, такую твою-сякую, зачим спаишь? Зачим на гостя не ходишь? – сквозь слёзы говорила Балкуныс. В жгучих чёрных глазах и на открытом простом лице была искренняя, неподдельная печать страдания и упрёка.
Мишка не в силах был заставить её слезть с воза. Конь с задним возом пошёл, Мишка и Балкуныс поехали. Мишка показал кнутом на вёдра, которые остались далеко позади. Балкуныс махнула рукой.
– Шорт с ним, – сказала она и стала тащить Мишку за руку, убеждая, что Кулумгарей очень обидится, если он не пойдёт в гости. Мишке было приятно с ней – и жаль её. Он любил её сейчас за неподдельную привязанность. Он закрыл её тулупом, заставил вытереть слёзы и стал уверять, что он завтра приедет обязательно, но Балкуныс не верила, она показала ему два пальца и презрительно, по-детски нахмурилась. Это означало, что она считала за ним уже два обмана. Она бесцеремонно расстегнула Мишкин полушубок, протянула руку под полы и сняла наборный, с серебряными бляхами казачий ремень, рубашку одёрнула, ущипнула за живот и застегнула на все крючки полушубок.
Мишке нравились проказы этой повеселевшей молодой азиатки, он смеялся и целовал её, но она не знала поцелуев и на них не отвечала.
Успокоенная Балкуныс стала слезать с воза.
Мишка на ходу спрыгнул и стал снимать проказницу. Он подхватил её обеими руками и несколько шагов нёс позади саней. Она гладила ладонью ему щёки, лоб, голову, сняв шапку.
Успокоенная и обрадованная Балкуныс побежала по дороге, вертясь, как ребёнок, и заливаясь смехом. Она высоко поднимала пояс, показывая его Мишке, он грозил ей кнутом…
Дома Мишку ожидал большой конверт, набитый бумагами – письмо от брата Дмитрия. В нём было много разъяснений по Мишкиным вопросам в письмах, много примеров, задач по ряду предметов. Мишка посмотрел всё это, и его бросило в жар.
– Уж тебе теперь, сынок, наверное, придётся засесть и не вылазить из-за стола с неделю, – весело сказал Степан Андреевич, – уж за сеном я сам буду ездить, а скотину убирать надо заставить девочку Дуняшу. После обеда садись и долби, как дятел, если уж взялся по правде. Когда офицером будешь, тогда отдохнёшь, а сейчас зубри, дай Бог тебе счастья, – с улыбкой погладил Мишкину голову и похлопал по плечу отец.
Мишка задумался. Не подняли ему настроения отцовские слова. «Ну что это значит? – думал он. – До сих пор нет ответа от Мити на моё письмо о Гале. Прошло ведь уже больше месяца, как я передал его Ваське, когда он ехал в город, чтобы тот прямо опустил на почте. Просто Митя решил отмолчаться, мол, барыня уехала, с ним дурь пройдёт, а я будто бы не знаю ничего. Надо будет сегодня же написать второе письмо». Он стал писать второе письмо. «Хороший друг» Васька отдал-таки это письмо Надёжке, чтобы обозлить её против Мишки. За Надёжкой Васька давно ухаживал, но не мог добиться взаимности, Надёжка же всё льнула к Мишке, как она сама высказывалась подругам: «Ну, язви ево, тянет и тянет меня к нему, как верёвкой, он привязал меня по-наплавошному альбо мёртвой петлёй…»
«Да-а-а-а, не придётся тебе, Балкуныс, дождаться меня. Уж когда свалю эту работу, тогда приеду. В гостях хорошо, слов нет, но за учёбой полезней. Вот уж когда не раскаешься, что учил, тратил время». Он писал: «Здравствуй, Митя! Получил от тебя письмище, еле конь довёз. На задачи-то ты не поскупился, а вот про Галю до сих пор не пишешь ничего. Пиши скорее, пока прошу твоего совета, а то уеду к ней в Калугу, и меня там с собаками не найдёте».
Получив это непонятное письмо, Дмитрий потребовал от Мишки разъяснения, что за письмо было и что за Галя. Мишка писал всё подробно и отвёз в город сам, надеясь получить ответ в январе.
Мишка упорно готовился на вольноопределяющегося, как того требовал брат. По получении последнего письма от Дмитрия он сидел уже четырнадцатый день. Во второй половине этого дня вошла к нему Дуняша; она потянула его за чуб и сказала шёпотом:
– Иди хоть на улицу сходи, ведь сегодня воскресенье.
– Да обожди ты, Дуняша, не мешай уж мне этой чепухой заниматься, – ласково сказал Мишка. Он её уважал, как сестрёнку.
Дуняша подошла и стала заглядывать через Мишкино плечо.
– Уйди, Дуняшка, к шуту отсюда, а то мама заглянет в дверь, тогда почешет тебе мягкое место. Прислуга с хохотом побежала в другие комнаты, а потом снова вошла.
– Миша, а там Кулумгарейка тебя ждёт. Он давно уж сидит, развалился, как пан, на стуле за столом.
Мишка попросил позвать его сюда.
Кулумгарей тихо, двумя пальцами открыл дверь в горницу и так же тихо, как будто боялся провалить пол, на цыпочках вошёл. Закрывая дверь, он два раза перекрутился, потом повернулся к Мишке лицом, широко улыбнулся, пошлёпал губами.
– Сапсим здрастуй, Мишка! – сказал он. Далеко протянув обе руки вперёд, шёл от порога, как бы крадучись, здороваться.
Мишка любезно поздоровался и попросил гостя сесть около столика. Кулумгарей засунул руку далеко за полу халата, вытащил наборный Мишкин ремень.
– Вот, Балкуныс сказал: «Давай твоя, а ишо сказал – зашем гостя не ходил?» Он сапсим плакил, он сказал: «Мишка скоро придот, нада», – говорил беспечный простодушный Кулумгарей. – Я тишас город идом. Два день тогда прийдом и твоя на гостя таскам.
– Хорошо, хорошо, приезжай, поеду, – согласился Мишка. – Тебя в той комнате угощали? – спросил он.
– Нет, не угощал, торка[17] обед кушал, шай не давал, – пояснил гость.
Мишка рассмеялся. Он знал, что киргизы очень любят чай, а обед почти не считают за угощение. Он попросил мать угостить Кулумгарея чаем.
Оставшись один, Кулумгарей рассматривал сверху донизу всю комнату, этот уютный, красивый зал, уголок богатого деревенского двора. Он мечтал построить когда-нибудь дом, который был бы похож на русские дома, но из всего аула только Чукубатор да Сарсенька смогли построить по русскому образцу, жители же всего аула спокон веков в землянках, да побогаче его, а где же ему, Кулумгарею, построить русский дом?
От Веренцовых Кулумгарей выехал только через час, он задержался за чаем, который пил с таким удовольствием, что пот лил с него ручьями. Боясь, что его захватит в дороге ночь, он поскакал от двора Веренцовых в карьер по городской дорог, даже забыл подтянуть чересседельник.
Проводив Мишку с сеном, Балкуныс с поясом за пазухой, как победитель, весёлая шла с вёдрами. Она ехала с Мишкой больше версты, которая показалась ей не больше десяти саженей. Она пришла домой. Сказала мужу: «Я видела Мишку и его работника, они ехали с сеном с лугов. У них два коня гнедых, два рыжих, один карий и три серые, – подчёркивала Балкуныс свою наблюдательность, присущую её соотечественницам. – Я звала его в гости, а он сказал, что приедет завтра. А когда я не поверила, сказала, что опять обманешь, то он снял вот этот пояс и отдал мне».
Кулумгарей обрадовался, засуетился. Он расхвалил жену за то, что она так хорошо умеет приглашать гостей, и что он был бы рад, если бы она умела так хорошо угощать гостей, как приглашать.
Прошёл день, второй, третий, за ними потянулись скучные, томительные дни и ещё более долгие, холодные зимние вечера и ночи. Балкуныс ждала, но Мишка всё не ехал и не ехал. Проходила уже вторая неделя.
Балкуныс посылала мужа на дорогу и выходила сама, чтобы утащить Мишку в гости, но Кулумгарей пришёл однажды и сказал, что встретил Веренцовых, был очень рад, но Мишки не было, а ехал с сеном сам хозяин, который никак не согласился пойти в гости, даже рассмеялся и обещал приехать после.
И стала Балкуныс искать выхода.
Давно муж поговаривал о том, что нужно купить хорошую корову, а свою, которая даёт мало молока, продать. В воскресенье Балкуныс проснулась рано, долго лежала, потягивалась, придумывала способ проводить куда-нибудь мужа. Вдруг она вскочила, позвала Кулумгарея, стала говорить:
– Сегодня воскресенье, ступай в город на ночь, там отдохнёшь, а утром выйдешь на базар или пройдёшь по постоялым дворам и найдёшь корову. Завтра к вечеру вернёшься. Вот тебе пояс, заезжай к дяде Степану, отдай его потихоньку Мишке.
Кулумгарей уехал. Балкуныс радовалась своей находчивости, она стала готовиться к встрече с Мишкой: ватные стёганые брюки сняла, надела бархатный жилет с монистами, осмотрела себя кругом, осмотрела и комнату: везде ли и всё ли чисто; заварила жирное мясо, считала время, когда муж доедет до Мишки, когда скажет Мишке и уедет дальше. Пожалуй, Мишка приедет верхом.
Проходило положенное время, даже с наброской на все непредвиденные обстоятельства, а Мишки всё не было и не было.
Балкуныс выходила на крайние дворы аула, откуда была видна вся дорога до Мишкиной станицы, стояла, ждала…
Лютый морозный ветер со снегом нёсся под широкое ситцевое платье, как иглами колол тело, она убегала домой, к горящему очагу, подняв платье, отогревалась и опять шла смотреть на дорогу.
Был уже вечер. Смеркалось. Истерзанная горем, досадой, Балкуныс вернулась в землянку. Нет, теперь уже не приедет, теперь он побоится, его могут дорогой обидеть какие-нибудь русские. Надо надевать брюки и ложиться спать, нечего ждать. Теперь надо ждать завтра, если один не приедет, то Кулумгарейка привезёт. Пусть мясо остаётся в котле, шорт с ним. Я есть не хочу. Даже думать про пищу не могу, тошнит. Аппетит пропал сразу… Уф! Ой! Аллах, аллах – помоги…
Разбитая, истерзанная тоской и рухнувшими надеждами, стояла у догорающего очага Балкуныс. Из жизнерадостного, свежего её лицо превратилось в искажённое, посеревшее. Она казалась постаревшей, похудевшей, плакала без слёз. Мишка теперь где-нибудь в своей станице играет с девушками. Он, наверное, не любит Балкуныс. Она думала и пристально смотрела чёрными глазами на окно, промёрзшее на палец льдом и снегом. Мишка не приехал.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1.
Потекли скучные, однообразные дни. Без особой радости и интереса прошли рождественские праздники и святки. С фронтов приходили грустные сведения: русские давно очистили Восточную Пруссию, Либава была отдана противнику в мае 1915 года. Варшаву отдали осенью, наступая на неё, немцы кричали: «Отдай Аршава!» Русские очистили и Карпаты. Линия фронта изогнулась непонятным и неправильным зигзагом. В телеграммах экстренного выпуска ежедневно сообщалось одно и то же, всё известное: «Под давлением превосходящих сил противника наши части отошли на новые позиции… Ввиду необходимости выровнять фронт наши отвели войска с такого-то боевого участка… Дабы избежать крупных потерь, наши части не оказывали сопротивления немцам и отвели войска на более удобные позиции…» И так далее.
На румыно-австрийском фронте, где русские помогали своим союзникам румынам, дела шли ещё хуже: румыны бежали от наступающих на них австровенгерцев, особенно от немцев, кто куда, а неприятельские солдаты кричали им вслед: «Эй, роман, куда бежишь? Обожди!». Длинноногие румынские кавалеристы на своим маленьких лошадках, на которых садились, как на велосипед, с успехом обгоняли пехоту, отступая вглубь страны.
Русские, видя такую «защиту» румынами своего отечества, плевали в их сторону, крепко ругали по-русски и тоже отходили, за что румыны кормили их одними галетами.
В Турции глубоко увязла нога русских и их союзников, хотя правое наше крыло и овладело Эрзерумом и Трапезундом, а левое вышло к озеру Ван. Французы же и англичане топтались в Месопотамии – до проливов Дарданеллы и Босфор было далеко, и проблема овладения вместе с союзниками этими проливами оставалась неразрешённой.
Со стороны Эгейского моря по Дарданельским фортам грохотали англо-французские орудия с первоклассных боевых кораблей, но батареи фортов не допускали корабли на досягаемость выстрела, так как сами бросали снаряды дальше их. Русские боевые корабли также не могли атаковать Босфор, опасаясь минирования и огромных, дальнобойных турецких береговых батарей. Даже гулять по Чёрному морю было опасно, потому что турки грозили двумя германскими сверхдредноутами «Гебен» и «Бреслау». Эти губительные для противника германские корабли были переданы туркам перед войной для борьбы с русским Черноморским флотом.
Англичане и французы, чтобы координировать действия с русскими и, выбив турок из Азии в Европу, овладеть Малоазиатским полуостровом теми же проливами и соединиться с русскими у Черноморского побережья, – стали наступать из Сирии, но дальше Месопотамии так и не продвинулись.
Вступление же Болгарии в войну на стороне Германии и Австрии усугубило проблему соединения англо-французов с русскими через Дарданеллы – Мраморное море – Босфор.
Нерадостные были фронтовые дела, да и война-то всем надоела. Народ уже интересовался не тем, что сообщалось о победах, если бы они даже и были, а тем, не написано ли что-нибудь в газетах об окончании войны. У всех было на языке: «Когда же мир, не слышно ли что о мире?» А другие шептали: «Мир в вас самих, мир в серых шинелях ходит». Намекалось на неподчинение приказам идти на фронт, намекалось на революцию…
А в армию всё брали и брали.
Чёрной змеёй подползла очередь к Мишкиному году. Он знал, что и ему придётся хватить горюшка по горло. Хотя он был уверен, что к маю-июню закончит курс на вольноопределяющегося, но это не спасёт его от фронта, от горя, а может, и от гибели.
Война чуть не ежемесячно вырывала жертвы из его станицы, начиная с первых дней, когда впервые раздался вопль: убит любимец станицы Петя Тырсин. Произведённый в первые дни войны в офицеры, он командовал казачьей, лёгкой, конногорной батареей на австрийском фронте. Он был сражён наповал осколком снаряда в голову. Вслед за ним потянулись жертвы, около полутора десятков, а потом и счёт потеряли.
Не редки были пропажи без вести. Немцы, захватив одного-двух казаков, не доводили их до штабов, расстреливали в кустах, в оврагах. Не любили немцы казаков. Не подходящие были им эти противники, не давали немцам ни отдыха, ни срока. Ни кавалерии, ни артиллерии, ни пехоте нет от казаков покоя.
От Мишкиного зятя Пантелея шли письма из германского плена. Диковина: казак, а в плену, да ещё и живой.
Он служил во втором Оренбургском казачьем полку в Варшаве, к началу военных действий попал в армию генерала Самсонова, которая, вторгшись вглубь расположения противника, была окружена немцами у Мазурских озёр-болот. Ей неизбежно грозило полное уничтожение и пленение, но многим разрозненным частям удалось вырваться из окружения. За что кайзер Вильгельм отстранил от должности командира восьмой германской дивизии генерала Притвица. Отсюда начиналась карьера Гинденбурга[18]*, вызванного кайзером из резерва чинов.
Мишкиному зятю не суждено было прорваться к своим, под ним убило лошадь, легко ранило самого. В кустах он сбросил брюки с голубыми лампасами и казачью фуражку, снял с убитого солдата всё солдатское и, одевшись, осмотрел себя кругом, рассмеялся: «Галка в чужих перьях, язви ево». Немцам он назвал себя солдатом Уфимской губернии такого-то полка, что на ум взбрело.
Теперь он писал письма из Германии о том, что находится к западу от Берлина. На фотокарточке из второго письма, где он сидел с какими-то солдатами, на коленях брюк ясно виднелась заплатка, над которой мать жены, Елена Степановна, пролила немало слёз. Он вскоре был отдан рабочим в крестьянское частное хозяйство. Жилось ему неплохо, но волка тянуло в лес. Лучше своей оренбургской станицы с ее вольными степями, Уралом, в котором кишит рыба, а в лесу зайцев хоть руками лови, он не находил, даже если бы жил в самом Берлине. Он ждал случая. Ночами подолгу лежал на спине, не спал, думал о доме, о молодой жене-казачке, о её огромном родстве[19], с которым хоть целые годы пируй, никогда не надоест. Все так любят выпить, что повисшую на рюмке последнюю каплю языком слизывают, а пойдут драться – колья трещат. Да что там говорить: вспомнишь обо всём этом – душа радуется, а тут что? Нет, родная сторона так и тянет, так и тянет…
Но родная сторона только тянула, а не вытягивала. Впереди ничего не было видно. Война полыхала по-прежнему.
2.
И всё же у событий свой век. Они созревают своим чередом, независимо от желания видеть их или не видеть, знать или не знать.
Уже начался мясоед[20], начались свадьбы. Некоторые из Мишкиных друзей уже сидели за столами со своими невестами, у них шли девичники (время от сватовства до свадьбы с ежедневными вечёрками).
Мишка прятался от приглашений на вечёрки. Дома он ежедневно слышал слова матери, обращённые к нему или к пришедшим собеседницам:
– Вот разберут хороших невест, останемся на бобах, а женить нынче обязательно надо, – говорила Елена Степановна, – вот, сынок, кого захочешь, того и пойдём сватать, воли с тебя не снимем. Но на сторону не поедем, бери здесь, у нас тоже много девушек хороших. А свадьбу надо начинать, нечего ждать.
Мишка отмахивался и уходил, думал протянуть весь мясоед, а весной видно будет: или на службу возьмут, или в Калугу уеду, лишь бы Митя приехал.
Он пошёл к своему другу Ваське, чтобы поделиться горем: мол, родители припирают с женитьбой. Уж если устоять не удастся, то чтобы жениться обоим. Он Ваське доверял, иначе не послал бы с ним письмо, адресованное Дмитрию, в котором просил брата помочь жениться на Гале.
Дом Васьки гудел родственниками, которые сразу умолкли, как только Мишка появился в дверях. Он поздоровался и прошёл в спальню, где Васька расчёсывал чуб.
– Уж не женить ли тебя кружит эта орава? – показал он на родных. Васька замялся, ничего не нашёлся сказать Мишке.
– А мне житья не дают, не хочется домой показываться. Так рвут, клочья летят, – горевал Мишка. – Пришёл к тебе посоветоваться. Уж если жениться, то надо обоим, – продолжал он, не зная о предательстве друга.
Мишка скучал без Паньки, тот сейчас болел: где-то в драке ему изрядно помяли бока, а потом пристала лихорадка.
Через паузу Васька стал божиться, что кое-кто из родных пришёл просто поболтать, а жениться в этом году он не будет, и родные его не притесняют.
Успокоенный Мишка ушёл. Васькины же родители по просьбе сына в этот вечер послали сватать Надёжку. Васька постарался увидеть её и сказать, что он сейчас от Мишки, и тот ему объявил, что он совсем бросил Надёжку и женится только на будущий год на какой-то барыне, вероятно, на той самой, о которой писал в письме Дмитрию.
Обиженная и взволнованная Надёжка в тот же вечер дала согласие выйти за Ваську. Надёжкины родители три дня тянули с окончательным ответом, поджидая Мишку, который, по их мнению, должен знать о Васькином сватовстве. Как раз эти дни Мишка пребывал в неведении.
Узнав, Мишка собрался, пошёл к другу, уж очень было задето его самолюбие. Он быстро вбежал на Васькино крыльцо, рванул дверь, вошёл в комнату. Его встретили Васькины отец и дядя, оба пьяные.
– Здравствуй, Миша, здравствуй, – здоровались они заискивающе, – а вот мы своему соловью голову свистом скрутили, а уж он упирался, да ничего не вышло. Проходи, проходи, Миша.
– А где же он, этот самый ваш соловей-то? – хмурясь, спросил Мишка.
– Да он побежал кое-кого ещё позвать, – тянули Мишку за рукав к столу. Мишка шёл, как бык к ярму, через родных в зале.
Сегодня они пойдут к невесте в дом, где родные невесты в торжественной обстановке вручат им платок или шаль с головы невесты. Это значит, что невеста за жениха просватана, вот ему от неё задаток. После этого у невесты начнётся вечёрка, ежедневно повторяемая до дня свадьбы.
Мишку усадили около стола, лезли наперебой с вилками и рюмками, как будто он был причиной удачного сватовства. Мишка сидел, широко расставив ноги, смотрел исподлобья.
На пороге появился Васька, увидел Мишку, приостановился, покраснел, как вареный рак, неуверенной походкой подошёл к Мишке, сел рядом, предательски скользнул взглядом по Мишкиному лицу и стал чуть не сквозь слёзы жаловаться на своих родителей: насильно его женят, да ещё и усватали такую девку, которую ему страшно не хочется брать.
В Мишке клокотала злоба, но подошла Васькина мать и ласково заговорила с Мишкой, справляясь о здоровье матери и отца. Мишка остыл, но всё же поднялся уходить. Васька повис на его руке:
– Миша, сейчас пойдём с тобой на вечёрку. – Он боялся, чтобы Мишка не увидел Надёжку. Но тот не собирался этого делать и у Васьки не остался. Дома, лёжа на печке, предался невесёлым раздумьям: «Что же делать? Жениться на Гале – ведь от неё дети будут полуказачата, полумужичата, и сам чёрт их тогда не поймёт. Их, наверное, на коне не выучишь ездить. Да и пойдёт ли ещё она? Здесь-то любили меня, а туда приехала, наверное, уж давно забыла. Ведь их, образованных, сам чёрт не поймёт: на словах одно, а на душе – другое. Надёжка, пожалуй, лучше, она казачка, правда, уж больно бойка, зараза, но у ней уж дети будут настоящие казаки. Нет, придётся посватать Надёжку, уж если не пойдёт, то чёрт с ней, на Гале женюсь».
Мишка послал вдову-родственницу к Надёжке.
Родственница принесла вести только на другой день. Она подала знак Мишке, чтобы он шёл в зал.
– Надёжка вот что сказала, – начала она, – если, говорит, он бросил меня совсем с потрохами и подходить ко мне не подходит уж сто лет, то я хочу его маленько проучить, теперь моя берёт, пусть покланяется. Пусть он на барыне теперь женится, кляп ему в дыхало, а не Надёжку! – да ка-а-к ишо больше матюкнётся, инды я испугалась. А родители её сказали, чтобы я вечером ишо пришла.
Ни вечером, ни утром Мишка ходить не велел. Он был доволен, может быть, теперь от него отстанут. А Надёжка раскается не десятки, а сотни, тысячи раз.
Его не беспокоили целую неделю. На улицу он тоже не ходил, стыдно было. Слух распустили такой, что будто Мишка сам ходил к Надёжке и упрашивал, в ногах валялся: «Выйди, ради Бога, за меня замуж, а то повешусь».
А вот она поставила на своём: «Нет и нет…»
«Правильно сделала Надёжка, молодец. Надо хоть одного Веренцова проучить», – не бесцельно одобряли и расхваливали некоторые Надёжку.
В то же время агентура работала: многим хотелось не прозевать момент и породниться с Мишкой, выдав за него родственницу, другим хотелось просто погулять на Мишкиной свадьбе, третьи хотели услужить его родителям.
Через неделю пришла сноха – жена Дмитрия, отозвала Мишку в сторону, стала говорить, как дипломат:
– Миша, я не знаю, кто тебе нравится, но вот я одно скажу, что лучше невест не найдёшь, как во-о-о-он там, в том конце живёт Наташа, ух, хороша девка. Ты её знаешь или нет?
– Нет, не знаю, – отрывисто отрицал Мишка.
– Она краси-и-и-вая, сми-и-и-и-рная, работя-я-я-я-щая и родители хорошие. Её сестра приходила ко мне и сказала, если пойдёшь сватать, то её отдадут.
– Так ведь я же не знаю её и никогда не видел! Что вы все пристали ко мне?
– Ничего, ничего, Миша, узнаешь, понравится она тебе, – невозмутимо, спокойно стояла на своём сноха.
Мишка молчал.
Когда сказали Степану Андреевичу и Елене Степановне, на какой невесте остановились родственники, то они от удовольствия расцвели: уж больно родители-то невесты хорошие.
Сноху поддержали большинство родственников, и вопрос был решён.
Вечером Мишка пошёл к Паньке в дом.
– А-я-я-я-й, Миша, ты совсем забыл своего товарища, – заметила Панькина мать, – совсем забыл нас, с неделю не был. Что у тебя со сватовством-то?
– Нос утёрли, тётя, проучить вздумали. Вот теперь и буду век мучиться неженатым, – покраснел и против желания рассмеялся Мишка, проходя в переднюю к Паньке.
– Да уж вот и я говорю: дураки дураками и подохнут. Отказали, а потом будут бегать, сучить голяшками, жаловаться на самих себя, да будет поздно. Их подзудили, дураков, а они рады стараться: трах-бах и отказали, – провожая Мишку, говорила Панькина мать.
Мишка прошёл в светлую спальню, закрыл двери. Панька лежал на спине, не спал:
–Ну что же не заглядываешь, аль об Надёжке всё плачешь? – смеясь, сказал он.
– Плакать-то не плачу, а вот стыд задушил. Надёжку бы я теперь надвое перерубил за такую обиду. Позавчера гонял коней поить на Урал, увидел её около платяной проруби, она полоскала бельё. Совсем было пошёл к ней, хотел столкнуть в прорубь и вилами под лёд наладить, но какие-то бабы шли, я вернулся. Теперь вот и сижу, как кобель в своей конуре, никуда не вылезаю, стыдно. Ну а ты скоро из своей берлоги вылезешь? Мне ведь ходить не с кем, вот и сижу на своём пчельнике.
– Если надо, то я сейчас с тобой пойду, – сказал Панька и стал одеваться.
Мать просунула в дверь голову и тихо сказала:
– Миша, тебя домой зовут.
Мишка попросил Паньку обождать, пока он сходит и узнает, в чём дело.
Дома уже собралось около десятка родственников, которые встретили Мишку с особой подчёркнутостью, упрашивая выпить.
Мишка волновался, злился, догадавшись о причине появления родственников, выпил подряд две рюмки. Все занимались отвлечёнными разговорами. С выпивкой наседали на Мишку несколько человек. Он отказался, и так уж выпил, сколько никогда не пил. Тогда его отвели в сторону и передали желание всех родных, а особенно матери и отца – женить его, тем более женитьба уже начата и бросать её на полдороге значит вызвать насмешки у всей станицы. Мишка позвал «дипломата» в отдельную спальню, закрыл дверь.
– Я себе невесту уже усватал, у меня невеста есть. А Надёжку я сватал – просто пожалел её, дуру, а она, вот видишь, что сделала. А эту саму Наташу, про которую ты говоришь, я нигде не видел и не знаю. А жениться я до службы теперь не буду. Теперь война, весной могут взять на фронт, за два года раньше времени.
– От-та дурак, неужели ты мне не веришь? Наташа лучше Надёжки в тысячу раз, я её хорошо знаю. А потом вот чего, – вкрадчиво говорил «делегат», – женись, чёрт с ней, чтобы не скучно было, а если весной возьмут на службу, тогда ты – вольный казак: куда надо, туда и поедешь, на ком надо, на том и женишься. А в хозяйстве работница останется, а на тебя и рукой махнут. Вот ты што пойми.
Мишка задумался, он почти дремал. И вдруг, выругавшись, махнул рукой и лёг спать.
Жест приняли за согласие. И отрубил этот жест Мишкину холостяцкую жизнь. С этого момента события, связанные с его женитьбой, развивались как бы сами собой, без него.
Проснувшись среди ночи, Мишка думал: «Что это за Наташа такая? Ведь я же её никогда не видел. Ну ладно, только до службы, а там к Гале подамся». Он отвернулся к стене и снова уснул.
3.
Наташа была засватана на второй же день.
Смеркалось. Шумной ватагой повалили Мишкины родственники к дому Наташи, чтобы нализаться до сшиба и получить платок или шаль с головы невесты, в знак полного её согласия. А потом Мишкины родные привалят назад, прихватив с собой родных Наташи, которые будут смотреть здесь жениха так же, как те смотрели там Наташу, с той лишь разницей, что здесь Мишка новых родных будет угощать самогоном, а там Наташа выходила просто так, напоказ, как на базаре.
Невеста Мишкина уже засватана, его родные уже пошли её смотреть, но Мишка ещё не видел, он пойдёт лишь через час, и хорошее ли она произведёт на него впечатление или плохое, – события будут уже колесить своим чередом.
Пьяная орава, увеличившаяся вдвое, как грозовая туча, двигалась обратно по улице, к дому Веренцовых. Она ввалилась в дом, осаждала спальню, приникала туда, висела на Мишке. Целуют Мишку мужчины, целуют женщины, его ли это родственники или родственники невесты – понять трудно. Они до тех пор надоедали с такими любезностями, пока их кто-то не выгнал из спальни и не загнал за столы, куда были уже усажены все старшие. Со всех сторон кричали: «Жениха давай, жениха смотреть! Может, он плохой, а то и пить не будем, откажемся и уйдём», – преимущественно шутили те, кто хорошо знал Мишку. Не знали его лишь некоторые старшие с другого конца станицы, и совершенно не знали отец и мать невесты.
– А шут их знает, – говорили отец и мать Наташи, когда их спрашивали, знают ли они жениха, – ходят и ходят они целыми табунами по улице, где их знать.
А когда им сказали, что жених очень похож на брата Дмитрия, то они перекрестились и сказали: «Час добрый, мы не супорствуем».
Когда пьяные кричали, требовали жениха, им несколько раз вталкивали из входной двери в комнату какого-нибудь казака, наряженного в лохмотья, измазанного сажей, с криком и руганью:
– Нате, заразы, вот вам жених, только не зевайте.
Толпа с хохотом и руганью выталкивала этого «жениха» обратно, требовала другого, хорошего, а вваливался в дверь ещё страшней. Старшие тоже хохотали над молодёжью. Так продолжалось долго, пока не наигрались досыта. Потом все смолкли, гости приняли серьёзный вид. Мишке подали знак, он вышел из спальни, поздоровался, поклонился, грустно, утомлённо ожидал подноса с налитыми рюмками.
Отец Наташи что-то часто глотал и вытирал ладонью с растопыренными пальцами усы, губы и бороду, потом часто заморгал и зашептал: то ли потихоньку ругался, то ли читал молитву.
Степан Андреевич сидел в переднем углу рядом со своими новыми сватами, вопросительно заглядывал им в глаза, в глаза других гостей, как будто спрашивал: «Ну как вы находите того, которого я таким сумел приготовить для вашей невесты? Не хвалитесь своей невестой, мой жених лучше!»
Молодёжь выкрикивала похвалы жениху, другие шутили, кричали: «Плохой, не годится…»
Елена Степановна вытирала слёзы.
К Мишке подбегали девушки, посланные невестой, сообщали: невеста ждёт.
По дороге Мишка зашёл за Панькой. Ватага девушек осталась у двора. Панька сидел одетый в спальне, ждал.
– Ну говори… Как и што… – поторопил Панька друга.
– Закружили башку и всё, что я больше могу сказать, – вздохнув, ответил Мишка.
– Но она будто ничего девка, я её немного знаю. Косили как-то в лугах рядом сено. Ну, а ты-то её знаешь хоть немного? – спросил приятель.
– Да ни черта не знаю, и не видел сроду. Вот сейчас только смотреть иду, пришёл за тобой. Давай вместе пойдём смотреть, а то один влипнуть могу: молока не будет давать и телят не будет, – смеялся Мишка.
– Да, теперь она хоть век без молока будет ходить. Так всё равно уж купил, – смеялись оба, выходя к девушкам.
В комнате невесты полно народу. Шум, говор, смех, подают голоса грудные дети. Свободное место лишь на два-три шага от порога. Полукругом стояли девушки, за ними любопытствующие женщины.
Мишка с Панькой перешагнули порог. В глазах зарябило от разноцветных полушалок, платков, лент в косах. Все, как на невидаль, уставились на жениха, рассматривая с головы до ног. Любопытно до слёз!
Но вот гости притихли, подались к дверям горницы, из которой появилась фигура, одетая в старое пальто и закутанная шалью до глаз. Поддерживаемая под руку свахой, она ковыляла к жениху, прихрамывая на обе ноги.
Мишка побледнел: «Вот влип! Пока не поздно, надо бежать». оглянулся – кругом женщины, не убежишь без свалки. А Панька подлил масла в огонь:
– Здорово ты врезался, Мишка!
Кто-то крикнул:
– Это не она, не невеста! Мы ту знам!
«Хромая» громко рассмеялась и убежала.
Робея, из горницы вышла в окружении подруг полная девушка в светло-коричневом шерстяном, отделанном по подолу и рукавам кружевными узорами платье. В руках поднос, на нём наборный серебряными пластинами казачий ремешок – подарок жениху. Шагнула навстречу Мишке, он остановил на ней упорный взгляд: «Она! Других-то всех знаю. А красивая!»
Под Мишкиным взглядом невеста отступила назад, показав из-под платья белые туфельки на низких каблуках – Мишка решил, что она выше его – на мгновенье остановилась, и как будто собрав силы и храбрясь, кем-то подтолкнутая в спину, пошла вперёд.
Мишка смотрел на её тёмно-русую голову с невидимой отсюда – он знал – тугой косой с бантами, на искристые оборочки на шее вокруг белого воротничка, на золотые серьги – подарок снохи Анастасии и брата Василия.
Теперь и все смотрели на Наташу. Она вспыхнула всем своим нежным лицом, но тут же взяла себя в руки, улыбаясь до ямочек на щеках, остановив на женихе взгляд тёмно-серых глаз. Мишка не выдержал, быстро подошёл к ней, взял подарок и обняв, поцеловал в полуоткрытые губы.
Наташа подала Михаилу мягкую ладошку и повела через расступившуюся толпу. Он искоса взглянул на невесту, и его обдало изнутри пламенем. Он крепко сжал Наташину ладонь, та тихо ойкнула и усадила жениха перед маленьким столиком.
Здесь, за этим столом, жених и невеста будут сидеть каждый вечер – от одной до трёх недель, пока родители не договорятся о дне свадьбы.
На столе яблоки, конфеты, печенье, другие сладости и грызовые семечки. Сюда подходят и садятся девушки, парни, родственники, знакомые, чтобы поиграть в подкидного с женихом и невестой.
В других комнатах танцы, игры, шутки, одним словом – веселье.
За день до Мишкиного платка Надёжка обвенчалась с Васькой, а к концу Мишкиного девишника по станице поползли слухи, что Надёжку невзлюбила свекровь за какие-то «круглые слова», и Надёжке от мужниной матери нет житья. Васькины братишки обзывают Надёжку разными скверными словами, а та посылает их вместе с матерью ко всем чертям, а то и дальше… Вот теперь Надёжка подол в зубы и бегает к родителям, жалуется на свою горькую долю…
Настал день Мишкиной свадьбы. Как только кончилась обедня, молодые мужчины стали выезжать на тройках с колокольцами, с лентами в конских гривах и хвостах, на дугах и хомутах. Это приглашённые Мишкой товарищи и родственники со своей и невестиной стороны. Вечером они должны везти поездом жениха и невесту в церковь венчать. А сейчас катаются, развлекаясь, по улицам.
После того, как от невесты приехала с её добром пьяная орава на двух-трёх подводах и её выпроводили, предварительно залив водкой, как сельдь уксусом, Мишку стали собирать к венцу.
На полу перед образами разостлали огромную кошму. Мишка, склонив голову, встал на эту кошму перед сидящими родителями, крёстным и крёстной, чтобы они благословили его иконой и хлебом. Он в это время кланялся три раза в пояс и три раза в землю. Теперь со своим поездом он должен ехать к невесте, которую к этому времени свои тоже благословили и ожидали жениха, чтобы благословить их вместе и повезти в церковь.
Во дворе Веренцовых готовились ехать за невестой: четыре тройки впряжены в убранные коврами санки, коренники – серые в яблоках, пристяжные – карие. На конях попоны. Под дугами коренников – бубенцы и колокольчики. Дуги в кумачовых и голубых лентах, ленты вплетены в конские гривы, чёлки, хвосты. Сбруя коней, уздечки, хомуты, шорки, шлеи искрятся наборными пластинками. Кони не стоят, рвутся с места, хотят скакать на просторе. Рукава коротких бекеш казаков белеют повязками – свадьба!
Женщины в полусапожках, в разноцветных широких юбках из дорогих тканей, на головах пуховые платки или цветные кашемировые полушалки. Верхняя одежда слепит расцветкой, она чуть ниже талии и подчёркивает стройные фигуры. Все ядрёные, пышные – кровь с молоком. Лица весёлые, одно красивее другого, одним словом, – вольные казачки. Во дворе – шум, смех, веселье, гармошка играет частушки. На первых санках жених, дружка Николай, двоюродный брат Мишки, сваха Анна, разбитная, красивая, средних лет. На других санках родные и друзья. Некоторые на конях верхами будут сопровождать поезд.
– Все ли сели? – крикнул дружка.
– Все, друженька! – нестройно, шало ответил поезд.
– Всё ли взяли?
– Всё, друженька!
– Тогда с богом! – крикнул дружка и махнул рукой вперёд.
Тройки одна за другой выскочили из ворот Веренцовых. Толпа у двора и на улице, наблюдавшая выезд жениха, отхлынула на обе стороны. Кучер, сидящий на передних санках у жениха, пронзительно свистнул. Кони, испугавшись, присели и рванулись, готовые выскочить из упряжи, понеслись стрелой вдоль улицы, выбрасывая из-под копыт шматки снега во все стороны. Заиграли гармошки на санках, и в такт им хрястнула разудалая оренбургская частушка с присвистом и гиканием, захватив, как ураганом, своим весельем несколько улиц станицы. Женщины махали исступлённо платочками.
У ворот невесты такая же огромная толпа ожидала поезд жениха. Некоторые уже «погрелись» и навеселе.
– Што-то долго нет жениха?
– Можа, отказался? А то мы вмиг жениха другова найдём. Невеста-то вон какая сдоба! – шутят у ворот.
Вдали, по улице, появились скачущие во весь опор тройки.
Слышна игра гармошек и разудалая игристая частушка. Тройки вихрем влетели во двор Бурлуцких. С шумом и смехом ссыпались поезжане с санок.
Дружка соскочил, подал руку жениху и повёл его к надворному крыльцу. За ними толпа поезжан.
Взошли на крыльцо. Двери закрыты, за ними слышны смех, хихиканье. Дружка постучал черенком нагайки в дверь, громко сказал:
– Господи Исусе Христе, помилуй нас!
– Аминь! – откликнулись в сенях.
Дружка три раза повторил стук и заклинание.
– Можно зайти?
Двери открыли.
– Пожалуйста, дорогие сроднички, милости просим, – сказала сваха и поднесла дружке стакан самогона: – Примите с поклоном! – и низко поклонилась.
Поезжанам во дворе подносили по две рюмки и закуску. После этого они с большим подъёмом играли на гармошках и пели в припляс частушки.
В горнице под образами сидела Наташа в полном убранстве. На одной стороне стола – родня невесты. За маленьким столиком перед невестой на табуретках блестели сапожками два мальчика лет по двенадцати – её охрана, «торговцы» косой в белых рубашках, расшитых цветочками по приполку, воротнику и рукавам. Чубы расчёсаны набок. У одного в руках свёрнутая вдвое нагайка. На столике деревянная, круглая, крашеная, в цветочках чашка.
Николай вынул из кармана щепоть медной мелочи и бросил в чашку. Оба «продавца» как по команде заглянули туда.
Один из них ударил нагайкой о стол. И оба в один голос:
– Э, мало! Не продадим косу невесты!
Николай из другого кармана вынул щепоть серебряной мелочи и положил в чашку.
«Продавцы» заглянули в чашку – и снова удар нагайки о стол:
– Э-э… – заглянули «продавцы» – мало! Не продадим косу!
Николай опять опустил руку в карман, теперь уже брючной, достал два полтинника и положил в чашку.
Ребята оба заглядывают в неё, смотрят друг на друга, ухмыляются и опять «хлоп» по столу нагайкой:
– Э-э-э, – ещё громче затянули «продавцы». – Мало! Не продадим косу!
У дружки выступил бисером пот на носу.
Николай опустил руку в другой карман брюк, вынул две бумажки по рублю: «Если ещё запросят, – хоть беги домой за деньгами или покупай в долг косу. Вот бестии! Взять бы нагайку да отхлестать вас, шельмецов!»
В это время кто-то из родных дёрнул за чуб одного из «продавцов» – хватит тянуть.
На этом «продажа» косы невесты закончилась. Николай подал жениху один конец платочка, держась сам за другой, повёл его к невесте.
Здесь родители Наташи благословили их иконой, хлебом и солью, осыпали хмелем на счастье.
За длинным столом, в конце которого под образами посадили жениха с невестой, все выпили и закусили. И поехали в церковь на венчание.
Было уже поздно. Тройки выскочили со двора невесты на улицу, к ним присоединились санки её родственников, и весь поезд полетел в центр станицы, к церкви.
Мишка с Наташей сидели на передних санках, с ними дружка. Ноги до пояса укрыты тулупами. Ветер свистит от быстрого бега тройки.
Вот мелькнули окна Надёжкиного дома. Как будто шилом кольнул Мишку в сердце позор, нанесённый ему. Он задумался… Пустырь, летевший навстречу, напомнил детство, когда они с Панькой выскакивали отсюда верхом на свиньях, и те в сумасшедшей гонке скакали со своими седоками. И теперь Панька был рядом. Он скакал вслед за Мишкой как ближайший друг и весело смеялся со своей Веркой и её подругой. Мишка улыбнулся.
Резко вырос, надвинулся дом, в котором жила Галя. Вот её комнаты, сюда он пришёл к ней впервые, за этим окном он полюбил её… Здесь сидел ночами после её отъезда. У Мишки стало ломить виски, ему стыдно было смотреть на её окно. А дом как будто иронически улыбался. Мишка отвернулся. Забытая было тоска подкатила комом к горлу. Мишка хотел заплакать, соскочить с санок и убежать, но незнакомое оцепенение удержало его на месте…
Тем временем безжалостно быстро двигалась навстречу церковная площадь. Вот она уже у ног передних коней.
Страшная, пирамидальная, тёмная громадина церкви со множеством слеповатых, решетчатых глаз – как тюрьма, тускло освещённая изнутри, смотрела из глубины площади на Мишкин поезд.
Огромные церковные двери, словно две необыкновенные губы, пропустили Мишку и Наташу в пасть этого призрака, чтобы обсосать с жертвы красоту и волю и выплюнуть.
Церковь встретила живой стеной народа, заворожёнными взглядами женских глаз. Мишка и Наташа стояли рядом. Мишка свирепо смотрел на аналой, словно приходя в себя, думал: «А ведь так и женят они меня, да уж без малова женили», – и беззвучно, бессловесно ругался. Наташа несколько раз вскользь посмотрела на Мишку.
В толпе выделялась высокая женская фигура, это была учительница Анна Григорьевна Голощапова, старая дева. Она ходила к Веренцовым и любила Мишку, как сына или брата. Вздохнув, она громко сказала:
– Ах, какая хорошая пара, какая красота, ну просто восхищение!
Женщины молча кивали головами в знак согласия.
Наташа ещё раз посмотрела на Мишку.
– Вот ещё, нашла где хвалить, и так стыдно, все вытаращили зенки, как на медведей, – шёпотом сказал Мишка. Он свирепо, вскользь посмотрел на людей, как на место казни, где преступника окружают только враги.
Поодаль, сбоку стояла, низко подвязанная шалью, с бледным лицом и виноватым, страдающим взглядом Надёжка.
Мишка не слышал, что говорил и пел священник, и только когда он со словами: «И положил на головах его венцы» подошёл к ним, Мишка увидел, как священник взял венцы с подноса в руках псаломщика, чтобы надеть на их головы.
Тяжёлый, бронзовый, под цвет золота, холодный венец придавил косички волос на Мишкином лбу. Как символ гнёта и вечных уз, венец тесным, острым обручем сдавил голову со всех сторон.
Мишке показалось, что по нему дали залп, но совсем не убили, а только изранили. Наташа нервно переступала с ноги на ногу. Ей хотелось, чтобы всё закончилось поскорее.
Новобрачных повели из церкви. Они шли рядом, держась за платочек. Толпа следовала за ними. Близко к Наташе шла сзади Надёжка, она что-то шептала. А когда пришла домой, набросилась на Ваську:
– Ну што, брехун, язззви-те! Говорил, Мишка на барыне, на барыне будет жениться, да в этом году и не будет жениться. Да ты и письмо-то наверно, сам написал, дурак…
– Что орёшь? – отговаривался Васька.
Из церкви новобрачных встретили Мишкины родители. В дом Веренцовых вошли по той же кошме, на которой новобрачных благословляли иконой и хлебом с солью.
Чего только не было в горнице на столах, накрытых белоснежными скатертями! Вареное и жареное мясо, заливная красная рыба, жареные сом, судак, осётр. Холодцы из свиных, утиных и гусиных ножек, гуси, утки, куры в соусах с картофелем, пироги с рыбой, утиным мясом, огурцы и помидоры в рассолах, в глубоких чашках куски солёных арбузов в своём соку, пирожки с калиной, ежевикой, вишней, клюквенные, вишнёвые и ежевичные кисели и ещё множество всякой всячины. Не было на столах свободного места! А посреди этих груд яств возвышались, как наблюдатели за порядком, четверти с самогоном. Для новобрачных – бутылка дорогого вина.
Ничего не пожалел Степан Андреевич для младшего сына. Приглашённых с обеих сторон немало – около шестидесяти человек. Нужно показать товар лицом, чтобы гости не осудили в жадности – это было бы позором на всю станицу.
Отец и мать Наташи смотрели на всё это убранство со своим интересом – прикидывали, как бы завтра «не упасть в грязь лицом», ещё лучше приветить своих гостей.
Новобрачных усадили в передний угол, под образа. Мишке в своём дому было легче, а бедная Наташа сидела, как в тумане, всё, казалось, происходило не с ней. Щёки пылали, как будто жгло их пламя костра. Когда кричали «Горько», она машинально вставала, подставляла губы для поцелуев: «Скорее бы кончились эти мучения». Этому вечеру, казалось ей, не будет конца.
По обе стороны рядом с новобрачными – их родители. Дальше – крёстные отцы и матери, потом почётные, убелённые сединами старики – у многих на мундирах два-три Георгиевских креста, а то и целый бант, и медали за военные кампании. За ними остальные приглашённые.
Наконец все расселись, успокоились. Всем налит самогон в рюмки, стаканы. Родители жениха и невесты первыми чокаются с молодыми, поздравляют их с «законным браком», целуются с ними. Все встают с налитой посудой в руках, поздравляют молодых, протягивают руки с рюмками, чокаются, кричат: «Горько! Ура!» Всем распоряжается дружка. Молодожёны только пригубливают, пить не полагается, грех.
После первых рюмок наливают ещё, а потом пошло и пошло, и закружилось в удалом вихре. Поминутно слышны выкрики: «Горько!» Кто-то кричит после поцелуя: «Сладко!» Веселье берёт верх. Под гармошку, по полу, как по булыжнику оцинкованными колёсами, отстукивают плясуны каблуками «казачка», «цыганочку», «барыню». Под гармошку, в пляске, поют разухабистые частушки с разбойничьим присвистом, хоть уши затыкай. Шум, крик, смех, шутки. Одним словом – гулянье.
4.
Елена Степановна не переставала плакать в последние дни: за два дня до свадьбы, когда Мишка уезжал за сеном, принесли письмо от Дмитрия. Елена Степановна попросила сноху прочитать письмо. Дмитрий писал брату о Гале. Из письма женщины поняли, что Михаил хочет жениться на какой-то Гале, не иначе как учительнице соседней станицы, а Дмитрий не только соглашается, но и настаивает не упускать хорошей и образованной женщины, привести её в дом, но пока не венчаться, а под её руководством закончить курс учёбы, поступить в юнкерское училище, тогда обвенчаться, так как женатого в училище могут не принять, даже не считаясь с военным временем.
Елена Степановна и сноха поспешили запрятать это письмо, чтобы оно не попало в руки Миши до свадьбы, иначе он переломает всё дело и всё приготовленное пропадёт. Столько наготовили самогона, кислушки наварили, разных сладостей из города навезли, а тут вдруг – на поди! Самогон весь прахом пойдёт, его выжрут за одну неделю мужчины-родственники, пронюхают и будут являться чем свет каждый день. Кислушка тоже вся прокиснет, разные сладости из города тоже съешь, не утерпишь. А стыда сколько? Скажут: «То сватали, а потом сами отказались». Нет уж, видно, что Бог даст. Они решили отдать письмо после свадьбы.
Елена Степановна запрятала письмо, вздохнула: «Ну, как Бог миловал, не попало письмо Мише. Сколько бы оно горя принесло. А изъяну-то, изъяну сколько? Рублей на триста».
Не понимала мать, как можно исковеркать жизнь самого любимого из детей.
Теперь она сомневалась не только в своём поступке, но и в прочности Мишкиного брака – и плакала. Не знала Елена Степановна, что те триста рублей, которые она боялась потерять, были бы много раз возмещены восемнадцатью тысячами Галиного приданого…
Кругом кричали: «Горько!» Мать не могла смотреть на Мишку без слёз. А Мишка думал о Гале. Если бы она нашла Анну Григорьевну и договорилась учительствовать, то та допыталась бы у Гали о её цели и, любя Мишку, специально выехала бы в станицу, чтобы повлиять на Веренцовых, тотчас женить Мишку на Гале, и теперь рядом с Мишкой сидела бы она, а не Наташа… Если б Дмитрий был дома к приезду Галиного отца, он пошёл бы к Борису Васильевичу, договорился с ним, привёл Галю за руку в дом отца и сказал бы: «Вот вам сноха, а муж её – мой младший брат! «И сейчас Галя сидела бы рядом с Михаилом, пусть не обвенчанная, но уже обручённая… А если бы осталась учительствовать в станице, то Мишка гулял бы с ней, приводил домой, под её руководством учился, а к окончанию Галиного учебного сезона и он закончил бы курс за шесть классов гимназии. А там, пользуясь связями старшего брата с войсковым начальством, поступил бы в юнкерское училище и тут же обвенчался бы с Галей.
Ну, а что теперь? Один выход: не ждать призыва, убежать в Калугу. Мишка не слышал, что ему кричали.
Балагур и песенник на всю станицу племянник Степана Андреевича Егор Веренцов затягивает любимую всеми песню «Скакал казак». Вначале пробует высоту: кому каким голосом петь.
У Егора высокий, бархатный голос, он сразу привлекает внимание. Эта песня вызывает у всех жалость к казаку, стремившемуся в свою станицу, где его встречает беда, и судьба резко меняется. Они чувствуют, что такое могло случиться с каждым. Правдивую песню любят.
Егор начинает протяжно:
Ска-а-кал ка-а-за-ак через до-оли-и-ину-у…
Подхватывают вначале вразброд, потом выравниваются:
Через Ма-аньчжурские поля-я.
Скакал он, вса-а-дник оди-но-о-кий,
Блестит колечко на-а руке-е.
Песня ведётся голосами то вверх, то вниз, как бы затухая, и представляется: скачет казак по долине – то вверх, то вниз, и песня скачет вместе с ним.
Егор продолжает плавно:
Кольцо ка-аза-а-чка по-о-дари-ла-а…
Хор голосов не вразброд, стройно, подхватывает:
Когда ка-а-зак шёл во поход –
Она да-а-ри-и-ла, го-о-во-ри-и-ла…
На слове «дарила» Егор поднял высоко голос и продолжал:
Что через год буду-у твоя.
Песня возбуждает, захватывает и тех, кто не пел, а только слушал уже в сотый, может быть, раз. Женщины высокими голосами тянут на самую вершину. Егор повествует:
Вот год прошёл, ка-а-зак стрело-о-ю-юу…
Хор вклинивается возбуждённо:
В село-о ро-о-дное поскака-а-л,
Завидел ха-а-ту по-од горо-о-ю-ю-у,
Забилось сердце ка-а-зака…
Песня хватает не только за сердце, – забирается под рубашки, вызывает мурашки по коже.
Егор повторяет ещё раз, чтобы все прочувствовали ситуацию:
Завидел ха-а-ту по-од горо-о-ю-ю-у,
Хор тянет:
Заби-и-лось сердце ка-а-зака…
Навстречу шла-а ему старушка
И что-то шепчет про себя…
Егор ведёт судьбу:
Напрасно ты, казак, стреми-и-шься-а…
Голоса подхватывают:
Напрасно мучаешь коня,
Тебе ка-а-зачка изменила,
Другому сердце отдала-а-а.
Егор продолжает своим бархатным голосом:
И повернул казак налево-о-о…
Все, опустив головы, вздыхают:
И в чисто поле поскакал,
Он снял с плеча свою винтовку
И жизнь покончил навсегда-а,
Егор повторяет:
Он снял с плеча-а свою винтовку-у…
Весь хор подтягивает:
И жизнь покончил навсегда.
Пускай казачка вспоминает
Меня, лихого ка-а-за-ка-а.
Песня возбудила давно прожитое и забытое, но в глубине души оставшееся. Может быть, вот так же кто-то из сидящих здесь скакал в родную станицу с надеждой, а получил разочарование… нужна была разрядка. Давай гармошку! Она развеет грусть. И пошли разухабистые припевки с приплясом, с присвистом.
Сват, Наташин отец, склонившись к Степану Андреевичу, говорил:
– Эх, Егорка-то, и мастак… песню вести, за груди хватает. Кто не умеет петь, дак и тот запоёт. Давай, сват, выпьем за молодых. Дай им Бог мира и благополучия в жизни.
После частушек затянули про Ермака Тимофеевича. Егор, опять лаская душу, начал:
Ревела буря, дождь шуме-е-л,
Во мраке молния блистала…
Стройно подхватили:
И беспрерывно гром греме-е-л…
Басы низили последнее слово, а Егор поднял свой голос до той высоты, где гремит гром и молнии блистают. И – тихо:
И ветры в дебрях бушевали…
Егор вёл дальше:
Ко славе страстию дыша,
В стране суровой и угрюмой…
Хор голосов на подъёме:
На диком бреге Иртыша-а-а
Хор понижает:
Сидел Ермак, объятый думой…
Егор:
Това-а-ри-щи его трудов,
Побед и громкозвучной славы…
Голоса – с подъёмом:
Среди рас-ки-ну-тых ша-а-тров
Беспечно спали средь дубравы.
Кому-то эта песня показалась слишком длинной, предложили другую – украинскую:
– Давай Дороша!
Егор и эту хорошо знает.
Наташин отец встрепенулся, как же, бурлуцкие – потомки запорожцев. А он – Пётр Бурлуцкий, сердце зажглось! А песня о запорожцах.
Егор тянет:
Тай на, тай на горе жницы жито жнуть,
Тай на, тай на горе жницы жито жнуть.
Хор подхватывает:
А по-пид горо-о-о-ю, яром, долыно-о-о-ю
Казаки йдуть.
Гей! Долыною гей!
Широкою – хорошенько!
Егор продолжает:
По-пе, попереду Дорошенко,
По-пе, попереду Дорошенко…
Хор как громом ударил, даже стёкла задребезжали:
Веде своё вiйско, вiйско запорижско –
Хорошенько!
Гей! Долыною, гей! Гей!
Широко-о-ю – хорошенько!
Егор своим высоким бархатным голосом витал где-то в небесах – не уловишь:
А-по, а позади Сагайдачный,
А-по, а позади Сагайдачный…
Хор тянет укоризненно:
Шо промэнав жи-и-нку, за тютюн да люу-ульку
Необбачный.
Гей! Широко-о-ю. Гей! Широко-о-ю – необбачный.
Егор как бы слушает Сагайдачного:
Мэнэ, мэнэ з жинкой нэ возыться,
Мэнэ, мэнэ з жинкой нэ возыться.
Хор утверждает:
А тютюн да лю-у-у-лька казаку в доро-о-зе
Прыгодиытся.
Гей! Долыною, Гей! Широко-о-ю
Прыгодытся!
Егор следит за конницей запорожцев и зовёт:
Тай, вер, тай, верныся, Сагайдачный,
Тай, вер, тай, верныся, Сагайдачный.
Хор как бы приказывает:
Возмы свою жинку и тютюн да люлюку необбачный
Гей! Широко-о-ю, Гей! Широко-о-ю необбачный.
Украинские песни умели петь, половина станицы была из украинских казаков, близки были всем тягучие, прелестные песни. А эта, про запорожцев, в сердце каждого казака-благословенца. После неё затянули тоже казачью «Солнце скрылось за горою». Потом про Стеньку Разина, потом про цыгана: «Один цыган не пьёт, не гуляет» и припев искристый: «Стояла, думала цыганочка молодая»…
Веселье продолжалось до глубокой ночи… Разошлись по домам кто как мог. Тех, кто жил далеко, на краю станицы, развозили на санях навалом.
От шума, нервного напряжения у Мишки разболелась голова. Он не помнил, как уснул. Проснулся поздно, Наташи около него не было, ушла, видно, помогать матери-свекрови и женщинам стряпать.
«Куда же она убежала? Уж очень что-то заботливой хочет себя показать… А что если бы на Балкуныс жениться да пойти по улице, а она шла бы в брюках с забранными в них платьями… Вот потехи-то наделал бы, ребятишек собрал со всей станицы», – с грустной бесшабашностью думал Мишка.
На другой день назначили сбор у родителей Наташи.
Новобрачные приехали на санках. Приглашённые пришли почти вовремя, некоторые уже навеселе.
Столы ломились. Бурлуцкие даже превзошли Веренцовых: под конец вечера выставили свежие арбузы и дыни.
И песни пели тоже старинные, казачьи – русские и украинские.
Брат Наташи – Василий незаметно отлучился и появился уже в украинской одежде: в широких красных бархатных шароварах, заправленных в хромовые полусапожки на низком каблуке; в белой рубашке, расшитой на рукавах и груди замысловатыми рисунками и заправленной в шаровары. В тонкой талии перетянут голубым кушаком. На голове – чуть набок – папаха из мелкого каракуля с голубым верхом. Из-под папахи падает смоляной чуб. Глаза у Василия большие карие, брови чёрные, усы мышиными хвостиками опускаются по углам рта. Едва показался он среди гостей, все повернулись в его сторону, разглядывая и улыбаясь.
– Василь, «казачка» резани! – закричали гости.
И Василий «резанул». После «казачка» станцевал чечётку, да так, как будто только этим и занимался всю жизнь. Ноги летали неуловимо, а сам улыбался, показывая из-под усов белые, как сахар, ровные зубы.
Ему кричали: «Молодчина, Василь! Ура Васе!».
И опять гуляли до глубокой ночи. Домой развозили на санях, как и от Веренцовых, навалом.
Гулянки продолжались почти две недели. Родственников с обеих сторон много, у всех нужно побывать, и везде шумно, весело, пьяно. Песни, пляски, припевки под гармошки. И всё же не до всех дошла очередь. Устали от сутолоки, шума, да и хозяйством нужно заняться. Скотина вовремя не поена, не кормлена, не убрана. Коровы выглядывают через ворота заднего двора, орут во всё горло трубным призывом: просят напоить и подоить.
Весёлая толпа по нескольку раз в день проходила по улицам станицы с плясками, пением под гармошку. Молодые женщины забегали на Надёжкино крыльцо, исступлённо плясали на нём и кричали среди улицы; «Можа, суда зайдём?» Надёжкины родные не показывались даже в окнах.
Мишка и Наташа за толпой не ходили. Они ездили на санках или уходили другой дорогой.
5.
После окончания свадьбы Елена Степановна достала из сундука письмо Дмитрия, адресованное Мишке. Бледная, как стенка, с опущенными глазами мать дрожащей рукой подала Мишке письмо и отошла в сторону, а потом, вытирая фартуком слёзы, ушла в другую комнату, готовясь выслушать всё, что может сказать оскорблённый сын. Она с минуты на минуту ждала этого, как ждут облегчения своим страданиям, ясно сознавая, какую обиду, а может, несчастье могла принести сыну.
Взяв письмо от брата, Мишка побледнел, потом щёки загорелись. Руки тряслись, болью сжало сердце. Мать всегда торжественно вручала ему письма от старшего брата, с радостью слушала чтение до конца. Исчезновение матери указывало на какую-то непонятную связь её с письмом, какую-то вину.
Мишка поднёс к глазам лист бумаги, исписанный родным почерком: «Здравствуй, Мишенька! Я очень и очень рад твоему счастью, которое ты приобретёшь, женившись на этой Гале. Вы будете гордостью не только нашего родства, но и всей станицы. Много говорить на эту тему не буду. сейчас же, не медля ни минуты, веди её в дом, каких бы трудов и какой бы цены это ни стоило. Женщине, о которой ты пишешь, нет равных не только в станице. Моя задача тебе такая: к моему приезду ты должен быть на ней женат. Об этом скажи тяте и маме. Несмотря на женатое положение, добьюсь твоего зачисления в юнкерское училище – поможет образование твоей жены. Итак, договорились. Других разговоров на эту тему не может быть. Если встретишь какие-нибудь препятствия, шли мне сейчас же телеграмму. Надеюсь, не пройдёт и месяца, как ты будешь женат на ней, если ты – мужчина и казак. Действуй смелее, решительно, независимо. Целую всех! Дмитрий».
Мишка несколько раз прерывал чтение – в висках стучало, тошнило. Дочитав до конца, он, как больной, поплёлся в другую комнату. Там с вопросительно-покаянным видом стояла мать.
Походя мимо с опущенной головой, Мишка без слов, укоряюще взглянул на неё. Он лёг на кровать и словно провалился в сон. До вечера он не вспомнил о еде, не ел и на другой день.
Подходила Наташа, не зная причины болезни, клала на голову руку. Мишка нежно гладил её руку, как будто говоря: «Оба мы с тобой несчастные, а особенно – ты…» С Наташей Мишке было скучнее, чем одному. Пытался играть с ней в снежки, игра не получалась. Наташа скоро убегала в комнату и больше не возвращалась. Мишка со снегом нападал на мать и Дуняшу, те ему отвечали, и он играл с ними. Вечером уходил к товарищам, сидел там до полночи. Придя домой, находил Наташу всегда спящей, а просыпаясь, она никогда не делала ему замечаний. Он не уделял ей внимания, которого она и не требовала, как будто не нуждалась в нём.
6.
Приехав домой, Галя испытывала гложущую её со всех сторон тоску. Первое время с часу на час ждала почтальона. Хотелось увидеть из Мишкиных писем, насколько откровенен он и прям с ней. Строчки писем даже показывала матери, особенно чуткой к чужой психологии – этому учила и Галю. Вдвоём они заключали, что Михаил не из тех, кто лжёт, глядя в глаза и не краснея. И что такой же он и в письмах.
С наступлением лета мать Гали решила ехать в Благословенную, посмотреть Веренцова, а если удастся, то и поговорить с ним, не выдавая себя. Конечно, если до начала лета Михаила не мобилизуют на фронт.
Борис Васильевич давно уже понял бесполезность уговоров дочери. теперь он ждал или приезда Веренцова, или отъезда Гали. Пожалуй, в обоих случаях придётся продать дом и предприятие и переселиться в Оренбург. Он был уверен, что Михаила к Калуге надолго не привяжешь, будет рваться в станицу, в свои степи.
Борис Васильевич дал согласие на поездку жены с наступлением лета.
Мишка тем временем писал письма, зубрил учебники и вечерами похаживал на улицу к товарищам. Наташа ему не препятствовала.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1.
Третье марта 1917 года.
Рано утром к Веренцовым в волнении прибежала соседка и тихо зашептала Елене Степановне:
– Кума, что я слышала: будто бы царя сменили. Вот ей-богу, Агафья говорила, – она часто крестилась, что-то глотая. У Елены Степановны вытянулось лицо, она перекрестилась.
– Што ты, што ты, кума! Бог милостив, не допустит. Гы, помазанника Божьего, да чо там говорить, да кто может его сменить? Пусть не болтает эта Гашка, ей завсегда все книги в руки. Ты уж, кума, при Степане-то не говори, а то он нам обеим хвосты накрутит да твоему скажет, а тот прибавит, – шёпотом предостерегла Веренцова. В коридоре послышались шаги. Кто-то крепко рванул морозную дверь. На пороге появился Степан Андреевич с белой от мороза бородой.
– Вот оно, было начало таять, а потом опять заковало, инды дух захватывает. Здорово, кума Васильевна! Чо кум делает? – спросил Веренцов.
Васильевна подвинулась раза два по скамейке взад и вперёд, виновато поморгала и, как будто оправдываясь, сказала:
– Да мой уехал в город, а я вот пришла к куме Степановне, да так, кое о чём болтам. Бабы ведь: чо правда, чо неправда, всё болтам.
Степан Андреевич испытующе посмотрел на обеих. Он догадался, что между ними был какой-то разговор, прекращённый с его приходом, и, раздеваясь, спросил:
– Ну чо же вы, кума, здесь болтали-то? Мне тоже охота послушать. кума нет, дак хоть с вами поболтать. – Женщины переглянулись. Васильевна смотрела вниз, размышляла: «Если сказать, то этот только поматерит, да и только, а уж если мужу скажет, то тот обязательно задницу напорет. Вот ещё с этой Агашкой связалась, подь она вся к чёрту». Елена Степановна тоже взвешивала про себя: «Ишшо тут эту чёрт принёс, теперь, если сказать, то как бы обеим не наклал, но слух-то уж больно интересный».
– Да вот как бы тебе сказать… Кума говорит, Агафья сказывала, чо, мол, дескать, там с царём, с батюшкой неладно, – вспотев, говорила Веренцова, часто утирая нос и моргая глазами.
Степан Андреевич нахмурился и насторожился. Васильевна рысью затрусила к порогу, на ходу подвязывая спадавшую юбку:
– Ах, батюшки, у меня там калачи, наверное, сгорели… Приходите к нам, – уже за дверью крикнула кума.
Степан Андреевич ходил, потирая холодные руки. А когда доходил до передней стены, где около стола стояла Елена Степановна, та с каждым разом пятилась подальше за печку, чуть-чуть поворачиваясь в сторону мужа, боялась.
Опасное, неловкое положение матери спас Мишка. Он вбежал со двора, куда только что пригнал коней с водопоя, закрыл двери и вкрадчиво сказал:
– Тятя, все люди говорят, что царя сменили и на его месте пока никого нет… Да не маши рукой. Вот сейчас на прорубях казаки говорили, вчера из города газеты привезли и читали.
– Язык надо под корень отрезать, кто говорит, – возразил Степан Андреевич. – Ну, если бы нашёлся какой дурак сменить, то сейчас другой был бы: ну, Николай Николаевич или ещё кто, а то – никого нет. Да как же мы-то сейчас с тобой живём без царя? Ведь это же, что без Бога… Нет, сынок, ты не верь бабским словам. Вот оне, черти лупозлазые, – показал Степан Андреевич на жену, – сейчас мне тоже сказывали, что Агафья им говорила. Ну уж если Агафья сказала, то, значит, правда, – горько улыбнулся он. – Ну, вот уж кума дождёмся из города, он привезёт газету. Посмотрим, что это за музыка…
Обеду помешал соседский мальчик, посланный отцом, вернувшимся из города: «Отец скорее зовёт дядю Степана читать больно антиресную газету». Степан Андреевич бросил ложку, бегом побежал за новостями.
Не прошло и десяти минут, как он возвратился с соседом-кумом и газетой в руках. Под крупным заголовком «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ» газета сообщала, что по требованию Государственной Думы государь император Николай Александрович, самодержец Всероссийский, подписал манифест об отречении от престола в пользу своего брата Михаила.
Подробностей отречения не было, это обстоятельство всё как-то комкалось и переиначивалось, однако назревшие события чувствовались ещё с декабря шестнадцатого года, когда газеты объявили о первой неприятности царского дома. Об убийстве Распутина сообщалось, что в ночь на такое-то декабря в квартире князя Юсупова убит Григорий Ефимович Распутин, тело которого наутро было найдено в Неве.
Кто такой Распутин, где работал, в какой должности, кем убит и за что – ничего не объяснялось.
О Распутине никто ничего не знал. Называли его и монахом, и священником, а некоторые – просто вышибалой из заведения. Говорили, что уж очень плакала о нём сама государыня. И чего верить всякой болтовне, что плохой человек, о плохом не стала бы плакать сама царица.
Прочитав газету, Степан Андреевич и кум в испуге переглянулись, будто жестоко осуждённые без права на помилование. Они молча крутили «козьи ножки» и жадно, нахмурив брови, курили одну за другой. Оба плевали на пол около порога, сосредоточенно думали. Наконец Веренцов сказал:
– Ни черта я всё-таки этому не верю. Тут какая-то ошибка. Ну как же это, кум? Ну ты сам посуди: ведь царь-то он – хозяин России, кто может его сменить?
– Аль верить, аль не верить, я уж не знаю, что делать. Я всю дорогу из города думал и так ничего не надумал, инды сердце всё изболело, и жрать не хочу. Давай, кум, вечером в правление сходим. Там у атамана полно казаков будет, там всё узнаем.
Через несколько дней газеты под тем же заголовком сообщили, что Михаил Александрович не принял престола императора, что государством управляет Дума под председательством Родзянко. О Распутине если и появлялись заметки, то всё как-то вскользь.
Газеты не рассказывали о том, что Распутин был духовником-воспитателем наследника Алексея, что он скоро заслужил особое внимание к себе императора, его жены и матери, что, пользуясь мягкостью царя, стал вмешиваться в государственные дела, заменяя собой фамильную и придворную знать из окружения царя; что «старца» пригласили во дворец князя Юсупова и угостили пирожными, начинёнными ядом, и что Григорий Ефимович не только не отравился ими, а расхвалил, что вынудило заговорщиков «помочь» отцу Григорию отправиться к праотцам; что эту неприятную миссию возложили на князя Дмитрия Павловича, который должен был по выходе Распутина застрелить его в коридоре, но бравый князь струсил, и пришлось Юсупову спешно стрелять вслед убегавшему гостю, преследуя его даже в саду; что убитого Распутина засунули в мешок и выбросили в реку, а на вопрос околодочного надзирателя о шуме и выстрелах Юсупов телефонировал, что беспокоиться нет оснований: им и его гостями убита забежавшая в сад собака… Но об этом не рассказывали газеты.
Фронтовые новости разноречиво комкались. Прошло несколько дней с отречения царя. Тема свержения уже надоела, всем стало ясно, что не только с царём, но и без него можно жить. В его отсутствие было всё то же, как и прежде.
2.
Мишка без особого интереса отнёсся к перевороту. Надёжка пыталась завести знакомство с Наташей, но у неё ничего не вышло: не из таких Наташа, чтобы с кем попало дружить: одной веселей и спокойней.
Летом Надёжка ушла от Васьки в дом отца. На Мишку это не произвело впечатления. Он как будто и не слышал, когда ему говорили об этом.
В праздничный день Мишка и Наташа сидели за столом в горнице, лускали семечки, беседовали, когда к ним вошёл Васька.
– У вас вроде как перевернулось всё вверх тормашками в избе, с тех пор как я был последний раз зимой, – сказал, виновато улыбаясь, Васька, не глядя на друга и его жену. – Изба вроде меньше стала, да светлая, аж глаза режет.
Мишка равнодушно, молча смотрел на Ваську. Он до сих пор не знал о его интригах.
Наташа пошла навстречу Ваське, стоявшему у порога.
– Проходи, проходи, Вася, – тянула его за рукав к столу.
Васька сел к столу. По-прежнему равнодушный Мишка спросил:
– Как дела?
Наташа перебила:
– Ну, что у вас там случилось? Почему ушла Надя?
Васька безнадёжно махнул рукой.
– Да с матерью не поладили. Она ведь какая холера, эта Надёжка-то. У-у-у, ладно тебя бог избавил, друг.
Мишка, поднимаясь, с фальшивинкой пошутил:
– Не беспокойся, дружок, у меня она жила бы – ни на кого не обижалась, а наоборот, бегала бы и расхваливала всех семейных и родных до десятого колена. Приведи её сюда, они у меня вдвоём с Наташей будут жить и скандалить не будут, – как киргизки.
Наташа ревниво замахала рукой и искусственно рассмеялась:
– Ну уж, сказал, она и здесь бы так сделала. Хороша штука, не хвали, пожалуйста, знаем её. Ну, а всё-таки ты, Вася, помирись, она неплохая, сойдитесь да живите. После этого, знаешь, как будете жить? Душа в душу.
– Да я-то не супорствую, да мать её никак не хочет. Нет уж, видно, придётся развод брать, теперь вон слобода вышла по этим делам.
Наташа в волнении подхватила:
– Нет, нет, нет, Вася, бери опять Надю, она хорошая. Разводную больно трудно хлопотать, и всё равно лучше Нади не найдёшь, – она боялась свободной, разнузданной Надёжки – попадёт где-нибудь Мишке под крыло.
– Да ладно уж тебе, Наташа, уговаривать, а то он опять к нам не будет ходить, – смеясь, сказал Мишка.
Весёлый шум нарушил посыльный огневщик из правления, от атамана. Пришедший вынул из кармана список, нашёл в нём фамилию Веренцова, ткнул пальцем в строку, поднёс к Мишкиным глазам:
– Вот, смотри, атаман зовёт, ментом[21] скачи, все твои ровесники там давно, – сказал он. – А ты, соловей болотный, вдовец соломенный, тоже здесь? – обратился он к Ваське. – Давай тоже расчеркнись – и подол в зубы, скачи.
Они расписались, посыльный торопил.
Около правления толпился народ – вызвали сразу два года.
Жёны объявленных по списку пришли с мужьями. Не было только Васькиной жены.
Узнав, что сына вызвали для призыва, Елена Степановна в слезах прибежала к правлению. Собранным объявили, что они должны быть готовыми, могут взять внезапно, даже среди ночи. В городе не ночевать, на мельницу несколько дней не ездить… Молодых казаков распустили, и началась обычная в таких случаях пирушка.
Мишка домой не пошёл. Они с Васькой проводили успокоившуюся Елену Степановну до полпути и отправились к задушевному другу Паньке. Панька провёл друзей в дом, где Верка отругала Мишку за то, что ни он, ни Наташа к ним не заходят. Она отвела его в спальню, усадила на стул:
– Вот только сейчас ушла Надёжка, чуть-чуть вы её не застали. Говорит, больно хочет тебя видеть, о чём-то поговорить. Я ей говорю: «Рада была, дура, что ума нема, а теперь бегаешь, голяшками стучишь. Ладно, скажу ему, а там как хотите». Ты, Миша, уж увидь её да натри ей бока, ради бога, может она успокоится, да и мне-то надоедать не будет.
– Я с ней разговаривать не хочу и не буду. Так ей и скажи, Вера.
– Вы што тут, заразы, прячетесь? – сказал вошедший в спальню Панька. – Вот я сейчас уйду в одно место, тогда как хотите. Ну-ну не обижайтесь, – шепнул он, – я скоро вернусь.
С его возвращением всё закружилось колесом. Васькина вторая выпивка в этот день дала себя знать, и свалился он в Панькиной спальне на полу.
Под вечер Мишка и Панька вышли за ворота. Станица гудела. Пирующих было много, в нескольких местах играли гармошки, то слышались частушки с присвистом, то протяжные песни. Глухо или отчётливо плыли они в прекрасном, свежем вечере. Дробью бил соловей, качался где-то над водами Урала. Смеркалось.
Мишка и Панька сидели у ворот, Верка несколько раз выходила, звала в комнату, но друзья не шли. Вдруг из-за кучи брёвен, как призрак, выросла Надёжка, посмотрела на обоих в упор и попятилась. Она так растерялась, что не могла опомниться и переминалась с ноги на ногу.
– Ну што заметалась, подходи ближе! – сказал Панька и толкнул Мишку в локоть. Тот безразлично смотрел на Надёжку.
– А Вера дома? – каким-то виноватым голосом спросила Надёжка.
– Дома, а где ей быть? – ответил Панька. – Иди в избу, она там в спальне спит, на полу. Всё ей что-то жарко на кровати кажется. Если там темно, то ложись с ней прямо под одеяло, а мы сейчас с Мишкой придём.
Мишка тихо смеялся и шепнул Паньке:
– Иди, скажи Вере, чтобы спряталась, а Ваську накрой одеялом, пусть она под одеяло лезет.
Панька быстро встал.
– Подожди, Надя, посмотрю, не проснулась ли Вера, а если дрыхнет, то прямо пойдёшь её громить.
– Что ты всё хохочешь? – тихо спросила Надёжка, как только скрылся Панька.
Мишке ещё больше стало смешно:
– Было время, я чуть не плакал, а ты смеялась, теперь я смеюсь, а ты, пожалуй, плачешь.
Надёжка хотела что-то сказать, но из ворот вышел Панька.
– Будил, будил, будил, так и не добудился. Ну вот дрыхнет, да и шабаш. Иди, Надя, лезь прямо к ней бегом под одеяло.
Надёжка проскочила в ворота. Панька тихо сказал ей вслед:
– Да ты тише иди, чтобы мама не увидела, а мы с Михаилом придём.
Друзья смеялись, глядя в ворота, как Надёжка, крадучись, вошла на надворный крылец и скрылась за дверью.
– Ну, мне, ей-богу, надо удирать домой, – отсмеявшись, сказал Мишка. – Ты начудишь, на всю станицу потехи хватит.
Он ушёл за угол.
– Вера, Вера, ну Вера же, – будила Ваську Надёжка.
Верка за печкой-голландкой держалась за живот и грудь, не могла дышать от смеха.
Васька вначале мычал, Надёжка продолжала будить, потом он зевнул и сказал: «Это я, тётя, а не Вера», – думая, что это Панькина мать.
Надёжка отскочила от Васьки, выбежала из комнаты.
У ворот друзей уже не было. Панька хохотал в коридоре.
Надёжка пробежала, не заметив его. За воротами она тяжело вздохнула и поплелась домой. Всё это она приписала Панькиным проделкам.
3.
Мишка рвался в Оренбург. На предварительном экзамене его экзаменатор, друг Дмитрия, Волженцев заверил, что в успехе можно не сомневаться. Он показал Мишке письмо Дмитрия, в котором тот извещал о своём скором приезде в Оренбург из Иркутска по окончании офицерской школы.
Обрадованный похвалами и новостями, Мишка чуть не в карьер погнал коня к сестре. Он уже представлял себя сдавшим экзамен, уже юнкером училища, уже окончившим его, уже с погоном хорунжего.
– Митя прислал письмо, – объявила сестра, как только Мишка появился у неё, – он скоро приедет, и поедем к вам. А вот самое главное, Мишенька: письмо от Гали, – подала она брату конверт.
– Да ты, милый мой, совсем оробел, а я не соображу, что ты стоишь на ногах. Садись за стол и читай, а я сбегаю к подруге, возьму кое-что… Для веселья, – сестра вышла.
Ах, если бы все желания наши сбывались, как их задумывали, не было бы ни нужды, ни горя, но не было бы и воли для преодоления препятствий… А без борьбы не было бы и интереса к жизни, которая вся для нас почему-то в будущем, а не в настоящем.
Мишка надеялся, что приезд брата поможет решительному перелому в отношениях с Галей, хотя и побаивался обвинений Дмитрия в безволии, в странной его женитьбе. Но окончание учения, Мишка верил в это, должно выручить его из беды.
Он приехал домой в прекрасном настроении. Степан Андреевич тихонько спросил около коня:
– Ну как, сынок, впустую учился столько?
– Нет, тятя, не напрасно просиживал ночи, могу ручаться, что на экзамене провала не будет. Я и сам это чувствовал, и экзаменатор сегодня подтвердил.
«От-то, сукин сын, – подумал отец, – у него всё колесом крутится: и баб не обижает, и хозяйство на нево не в обиде. Умница и работящий, што уж говорить – весь в меня удался, только вот баб-то, баб уж больно… По этим делам не в меня… язви ево…»
Мишка с работником косили траву на залежной земле[22], не приезжали домой уже несколько дней, ночевали в степи. Однажды проспали чуть не до обеда. Кони уже напаслись и пришли в стан, в жажде толпились около бочки. Подъехавший вплотную к ним Панька закричал:
– Эй, вы! Работнички поповские! Кони-то у вас собрались, пить хотят, а вы дрыхнете, собаки.
Мишка и Михайло вскочили оба, побежали поить. Панька стал отпрягать коня, в телеге у него лежали два седла. Мишка подошёл к телеге.
– Не смотри, не смотри, одно – моё, а одно – твоё. Вот отсюда прямо в карьер на войну поскачем, – сказал Панька, отвечая на вопросительный Мишкин взгляд. – Дядя Степан послал за тобой, Дмитрий Степаныч приехал. Я думал поехать верхом, но решил запрячь телегу, взять сёдла, а там оседлаем коней, поджигитуем дорогой, а телегу мою привезёт Михайло. Ну так и сделал. Да ты всё позёвываешь, инда весь рот разодрал! – Мишка рассмеялся.
Михайло, давай Гнедого, – сказал Мишка. – Фу, мы только успели задремать, и тебя леший принёс. Может быть позавтракаем?
– Ну ещё время вести, што ты? А на джигитовке брюхо лопнет, и завтрак пропадёт. Как нажрёшься, а то уж лопнет обязательно, – смеялся Панька.
Оседлали коней.
– Ну вот, – сказал Панька, – ладно тётка Степановна, а то бы ещё с месяц собирались. А всё ты: то покос, то навоз, так и тянул.
– А ты, Михайло, тяпни немного под рыдванкой, после завтрака-то, а потом закончи копнить и приезжай со всем станом домой, – сказал Мишка и поскакал догонять друга.
Они выехали на гладкую дорогу, по которой до станицы было вёрст восемь. Панька погнал своего коня полным карьером, чтобы развить скорость для джигитовки. Мишкин конь становился на дыбы, рвался вперёд, Мишка его держал, чтобы потом конь бежал быстрее, догоняя своего друга. Панька был уже в версте, уже стал делать темпы[23] через круп коня, когда Мишка пустил Гнедого во всю мочь. Как только Гнедой развил предельную скорость, Мишка приступил к темпам.
Не знал он, что когда Панька вёз на телеге Мишкино седло, то пахвички-нахвостник, не позволяющий седлу съезжать на шею лошади – возле самого седла чуть не насквозь перетёрлись о тележное колесо. Седлая гнедого, Михайло тоже не досмотрел.
Мишка схватился за пахвы и привычно выбросился из седла. Конь, как гончая собака, бежал во всю мочь. Пахвы оторвались, Мишка с пахвами отделился от коня и полетел по инерции ножницами поперёк дороги. Сколько раз он перевернулся и как далеко катился, Мишка не помнил. Он потерял сознание и лежал, распластавшись по земле с раскинутыми руками, белый, как воск. Конь сделал огромный круг, перешёл на галоп, потом на рысь и бежал к своему хозяину.
В последний момент Мишка уже догонял Паньку, а теперь тот был в версте от него. Гнедой подошёл к Мишке, опустил голову и стал нюхать ему лицо, а потом, смотря в сторону ускакавшего вперёд Паньки, заржал, будто призывая. Он смотрел во все стороны, ища помощи.
Остановившийся Панька понял, что с другом какая-то беда. Он, как сумасшедший, поскакал назад. Мишка не шевелился. Панька подошёл к нему, сел у ног. Лет десять Панька не плакал, а сейчас его глаза застилали слёзы. Мишка тяжело дышал, в левой руке были пахвы. Панька взял их, осмотрел и всё понял.
– Ах, такую-сякую её, телегу, житья ей только до вечера, как привезёт её Михайло, так, суку, изрублю и заставлю бабу баню истопить. Я ей наделаю делов…
Мишка открыл глаза, будто проснулся, но вначале не понял, в чём дело. Он везде чувствовал боль.
– Ну скажи, как и што? Где ушиб? – спросил друга Панька. – Уж совсем испугался, думал натло[24], а это ничего, пройдёт. Ну, вставай.
Мишка тихо шептал, что он не знает, где ушиб. Везде. Панька положил Гнедого, Мишка тихонько сел на коня. Шагом поплелись к станице. Панька сказал Мишке о причине беды и ещё раз выругался, что телеге житья только до вечера.
С огромным трудом Мишка сошёл с коня. Елена Степановна прибежала с горькой полынью, упрашивала выпить: «Лихорадку как клином вышибет». Предлагали «умыть сглазу». Но Мишка молчал, у него болело всё.
Степан Андреевич уже сидел в доме Дмитрия, ждали туда и Мишку, но посланная от Дмитрия девочка сказала, что дядя Миша приехал с поля хворый, лёг и немножко стонет, не идёт.
Степан Андреевич, Дмитрий и гости пошли в дом отца. Дмитрий шёл впереди всех. Мишка отчётливо слышал, как Дмитрий вбежал на крыльцо. Вот его весёлый разговор с кем-то, он вбегает в комнату, открывает дверь…
– Ну как браток, некому было тебя поколотить? Дурень ты стоеросовый, – говорил запальчиво Дмитрий. Он сел рядом с кроватью, дверки закрыл на вертушку. Мишка, перемогая боль, ждал от брата главного.
– В чём дело? Что случилось? – притворно спросил он, – ты хоть поздоровайся, а тогда уж пыли.
Дмитрий крепко пожал и задержал руку брата.
– Как «что случилось»? Женили-то кого? Быка разве, а не тебя? – нервничал брат.
– Ну, а я-то при чём? Это им захотелось женить, – показал Мишка на дверь рукой. – Я ведь сам-то не женился и не считаю себя женатым.
– Ты чушь не городи: «не женился». А вон на дворе кто это бродит, не твоя ли половина? Ты можешь считать себя не только холостым, но и королём Испании, но ты – женат. По закону.
– То, что я узнал о Галине Борисовне… Эх, излупить бы тебя, остолопа! Писал, распинался, я мозговал ответ, а ты ответа не дождался, бух в болото. Ну как же, надо было спешить, а то вдруг кто перехватит и останешься навек холостяком, – зло засмеялся Дмитрий. – Эх ты, ерунда, дурацкая ерунда. Ты знаешь ли, дурацкая голова, что счастье твоё пропало? Ты знаешь, что ты сам его погубил? Сердце плачет, жаль тебя и зол на тебя. Говори, чем болеешь. Я вижу, у тебя лихорадки ни в одном глазу нет. Тебе, видно, намяло бока, вот на это больше похоже.
Мишка не думал скрывать от брата причину болезни, он рассказал Дмитрию всё, на что тот равнодушно заметил:
– Ну ничего, пройдёт, поосторожней будешь. Скажи спасибо, что лицо не изуродовал, а только бока, да ещё под рубашкой, там не видно, присохнет, как на собаке. Вставай.
Мишка, светлея лицом, загипнотизированно смотрел на офицерский погон брата: галун с просветом был нашит на голубое поле. Он попросил Дмитрия помочь встать с постели, они вышли из спальни под руку, направляясь к столу.
Со всех сторон кричали гости: «Ура офицеру Веренцову! Ура будущему офицеру Веренцову-младшему!»
Рано утром Дмитрий уехал.
4.
К следующему приезду Дмитрия из Оренбурга Мишка выздоровел и вполне мог ездить на коне. Дмитрий приехал верхом. Красивый конь был под новым, казачьим седлом. Брат собрался покататься с Мишкой по степям. Они вдвоём выехали в поле. Ехали и шагом, и рысью, скакали в карьер, разговаривали, подшучивая друг над другом, несколько раз вели коней в поводу. Мишка обсуждал с братом приёмы джигитовки, которых показать пока не мог по нездоровью. Дмитрию все эти номера были известны ещё с действительной службы, он их отработал в учебной команде, иначе его не выпустили бы урядником…
Они выехали на возвышенность. Внизу виднелись камыши и тростники, с обеих сторон обступившие речку Бердянку. За ними расстилалась равнина, усеянная юртами – группами и по одной. Меж юртами мелкие, чёрные точки, как будто рассыпан мак. Это пасся скот.
Вдалеке дымилась юрта Кулумгарея. Мишка остановил коня, сам по себе повернулся и конь Дмитрия. Мишка указал нагайкой в сторону киргизских далей:
– Смотри, Митя, какая красота. Всё поле – сплошное селенье, все трубы салютуют дымами по утрам. Ты ведь давно не ездил к ним, не говорил с ними. Давай поедем. Здесь кибитка Кулумгарея. Помнишь, ездил к нам со старой женой, а теперь женился на другой, та у него, кажется, умерла.
Дмитрий о чём-то думал, он как будто очнулся ото сна, сказал:
– Ну всё равно, давай поедем поскорее.
Они перешли на рысь и скоро по вязкому броду переехали Бердянку.
Дмитрий хорошо говорил по-киргизски, любил гостить в аулах, принимать у себя, умел даже сидеть на полу, по-киргизски складывая ноги. Не только в первом, но и во втором, и в третьем аулах знали Дмитрия и любили его за казачью лихость и знание их языка.
От Бердянки долго ехали молча, каждый думал о своём.
– Митя, расскажи, как теперь управляется наша империя, лучше или хуже будет без царя? – нарушил молчание Мишка. – Говорят, законы изменятся, а как изменятся – я не знаю.
Дмитрий усмехнулся, он не знал, что ответить. Офицеров не посвящали в тайны политики, считали это вредным для них.
– Когда пойдёшь на службу, сам всё узнаешь, а я сейчас ничего тебе не скажу, я сам ни черта не знаю. Другому бы я этого не сказал, постыдился бы, а тебе вот говорю, – признался Дмитрий. – У нас всё сейчас так замкнуто, что в десять раз хуже, чем у рядовых. Там говорят обо всём открыто, а у нас о самых обыкновенных вещах говорят шёпотом. Для нас, казачьих офицеров, вновь испечённых капризами войны, настало время свободной неволи и невольной свободы. То есть свободно и дёшево мы получили эту неволю, называемую свободой, и невольно получили свободу, которой абсолютно не добивались и не имели в ней никакой нужды… О государственном аппарате я знаю только то, что вначале был комитет, во главе которого стоял Родзянко, а потом – Временное правительство, возглавляемое князем Львовым. После июльских событий правительство возглавляет Керенский. Вот и всё. В правительстве постоянные трения и разногласия. Что до царя, то без него дело может пойти гораздо лучше, чем при нём, если в правительстве будет единодушие…
– Я ездил в город, – сказал Мишка, – там на каждом переулке митингуют. Влазит какой-нибудь сморчок на мусорный ящик или на кадушку и кричит во все стороны, как петух на плетне. А когда его столкнут, то он опять лезет и опять кричит. Какой-то тип в мещанской шапчонке кричал во всё горло: «Только Учредительное собрание спасёт страну, а это правительство не хочет вводить реформы, долой это правительство». Его схватили, куда-то потащили, а на его место залез другой. Я ушёл, конь не дал мне послушать – боится толпы. Но вот какие реформы, в чём они состоят, я не знаю.
Дмитрий обещал объяснить брату об этом дома, так как уже подъезжали к юрте.
Кулумгарей давно заметил всадников, приложил руку ко лбу, старался определить – русские это или киргизы. Когда он понял, что это русские едут со своей степи, он позвал Балкуныс, та бросила месить лепёшки на сале, которые пекла пресными на жару, вложив между двумя сковородами. Она вышла из юрты, когда всадники были в версте. Балкуныс бросилась назад в юрту с криком: «Мишка, Мишка!» Восторга своего она не скрывала. Да разве Кулумгарей будет обижаться на то, что она любит Мишку? И иногда сидит с ним наедине? Ведь Кулумгарей и сам не меньше Балкуныс любит его, всегда бывает очень рад его приезду. Да и как не любить его? Кто может его не любить?
Она вбежала в юрту и стала приводить себя в порядок, забыв о лепёшках.
Радуясь приезду Мишки, Кулумгарей знал, что жена неравнодушна к этому юноше. Он был бы рад, если бы и жену любил такой хороший русский джигит, он бы гордился этим… Зачем он будет мешать их любви? Они молодые, пусть забавляются. Ведь Балкуныс не видит в жизни никакой отрады. Да и если есть между ними какое молодое дело, оно не разрушит их семью. Балкуныс заслуживает радость…
Навстречу Мишке Кулумгарей шёл с протянутыми руками, а когда узнал Дмитрия, прибавил шагу.
– Митька, Митька, сапсем гаспадинь остался! Сапсем здрастуй, пожалуйста, Митька! Сапсем, пожалуста, джигит!..
Затянутая в офицерский мундир фигура Дмитрия поразила Кулумгарея. Светлые погоны подчёркивали красивое лицо под аккуратной фуражкой с голубым околышем и офицерской фарфоровой кокардой. Тёмно-синего кастора[25] с широкими голубыми лампасами брюки были забраны в светлые шевровые сапоги, облегающие ноги, как чулки. Братья как будто соревновались в красоте и грации. Если бы не Балкуныс, Кулумгарею никогда бы в жизни не видеть у себя таких гостей.
Балкуныс никогда не видела и не знала Дмитрия, но по лицу определила, что это – Мишкин старший брат.
Казаки спрыгнули с коней, Дмитрий пришёл в юрту, а Мишка повёл коня к коновязи. Кулумгарей тянул Мишку за руку в юрту, как будто боялся, что он уедет обратно.
С нагайкой, надетой на руку, Дмитрий вошёл в юрту, часто произнося киргизские слова. Он перешагнул через ребро доски, изображающей порог, заговорил по-русски:
– Ого, Кулумгарей, когда же это и где ты нашёл себе такую жену? Это же ведь твоя жена, если не ошибаюсь? Ну вот, – Дмитрий вышел из юрты, кричал Мишке: – Иди сюда, Миша, посмотри, что Кулумгарей имеет.
– Да я знаю, видел уже несколько раз, – ответил тот.
Дмитрий опять вошёл в юрту.
– Мой марджа сапсем джигит, – с гордостью говорил Кулумгарей, – мой марджа сапсем Мишку любит.
Дмитрий поинтересовался:
– Так кто же кого любит, я не понял: марджа Мишку или наоборот?
И тут же перешёл на киргизский язык. Дмитрий говорил и смеялся. Балкуныс живо ему отвечала.
Смеялся и Кулумгарей. Наконец хохочущая, покрасневшая от стыда и радости Балкуныс пулей вылетела из юрты.
Мишка медлил, не входя в юрту. Он догадывался, что брат говорит с этой проказницей о нём.
Кулумгарей вышел из юрты, взял Мишку за руку, тянул к Дмитрию.
Тот с улыбкой спросил:
– Я думаю, ты в восхищении? Ну ладно, дело не моё. А где же эта звезда? – И стал звать её сквозь стену юрты.
Балкуныс вошла, закрыв лицо руками, смеялась, потом села к Дмитрию спиной. Постепенно успокоилась.
Дмитрий сказал, обращаясь к брату:
– Да если эту сдобнушку ввести в культурное общество, она и без косметики такое произведёт впечатление, что городские красавицы от зависти губы покусают. Ты заметь, они очень быстро приобретают восхитительную грацию. Я знаю в Оренбурге одну татарку Валидову, от неё все наши офицеры с ума сходят. Ну, а эта перещеголяет ту.
Чай ещё не выпили, а Балкуныс уже начала варить мясо для бешбармака.
Гости собрались было уезжать, но Кулумгарей заявил, что сейчас будет готов обед, не угостив которым, он отпустить гостей не может. Пришлось остаться…
Никогда Балкуныс не была в таком расположении духа, как сейчас. Она бегала, всему радовалась.
Когда казаки поехали, она долго шла рядом с конём Дмитрия, держась за уздечку. Кулумгарей стоял около юрты, махал рукой гостям, а потом ушёл в юрту.
Обратно Балкуныс шла спиной к юрте, не отрываясь смотрела на отъезжающих…
– Ну как ты себя чувствуешь? – спросил Дмитрий брата.
– Откровенно говоря, Митя, мне не хотелось уезжать так скоро…
– Вот что, Миша, – энергично сказал Дмитрий, – ты должен будешь приехать ко мне в Оренбург. Тяте я сегодня скажу, что ты мне там нужен, и он отпустит. Свожу тебя в офицерское собрание, познакомлю с некоторыми офицерами, это тебе нужно будет… Да, – вернулся он к Балкуныс, – эта способна закружить голову. Я посмотрел на неё – просто прелесть. А ты знаешь, каких-нибудь лет сто назад мы и они были бы самые непримиримые… Мы бы сейчас не разъезжали вот так по их полям, а сидели где-нибудь с кремневыми ружьями в камышах около Бердянки и караулили бы вот таких Кулумгареев. Он нас сегодня так радушно угощал. Не боялся. А тогда ведь сколько они нашего брата, вот как ты, да я, на тот свет спровадили, у-у-у, не пересчитать. А теперь многие из наших казаков с ними большие дела делают: и торговые, и скотоводческие, и не обижаются на них. Да, без сомнения, они очень хорошие люди; простые, гостеприимные, у них хитрости нет. Они мне очень нравятся, я от них, кроме хорошего, ничего не видел.
У Веренцова двора братьев ожидали, их общество любили – шутников, песенников и танцоров. Мишка же, кроме всего, прекрасно играл на гармошке, без которой веселье – не веселье.
И снова всё завертелось колесом в этот вечер. А на рассвете Дмитрия Степановича проводили в город, не укладывая спать…
5.
Мишка ещё спал. Мать подошла к кровати и сообщила, что к ним на квартиру поставлен какой-то молодой казачий офицер. Сейчас он ушёл в правление, сказал, скоро придёт.
Вскоре на пороге появился обмундированный с иголочки хорунжий.
Из глубины зала Мишка шёл ему навстречу. Офицер приостановился, в упор посмотрел на Мишку, подавая руку: «Саша Ситников».
– А какой вы станицы? – представившись, спросил Мишка.
– Станицы Бердской.
– Так вы, наверное, знаете моего брата, Веренцова Дмитрия? Он до августа прошлого года обучал казаков в вашей станице.
– Ох, нет, я только что окончил юнкерское училище. В прошлом году и перед этим два года домой не ездил, не пускали, – сказал Ситников.
– А по какому делу приехали? – поинтересовался Мишка.
– Проверить кое-какие данные по выборам в Учредительное собрание. Хотя эта кампания будет проводиться только в ноябре, подготовка уже ведётся…
Ситников и Веренцов понравились друг другу. Расставаться не хотелось, и они пошли в рощу пробовать два новых револьвера, привезённых хорунжим.
– Я замечаю, вы женатый? – обронил Ситников.
– Да, обкруженный, – усмехнулся Мишка.
– Какая легкомысленность! Жаль. Образование имеете?
– Экстерном готовился за шесть классов гимназии. Экзамена ещё не держал. Экзаменатор советует не беспокоиться.
– Я уверен, что в осенний набор вас примут в наше юнкерское училище. Ну, а что женат… время военное…
– Это же обещает мне и брат. Я вчера был у него в Оренбурге, ходили с ним к атаману отдела – тот осмотрел меня со всех сторон, как коня на базаре, и сказал, что пропустит в юнкерское. А потом стали с братом что-то шёпотом разговаривать.
Приятели возвращались домой берегом Урала. У самой кручи стояла пожилая дама, из городских, и пристально вглядывалась в них, а когда они прошли мимо, пошла вслед. Около своих ворот Мишка невольно оглянулся: дама остановилась и подала ему какой-то знак.
«Мать Гали!» У него часто застучало в груди: он жестом попросил её обождать, а сам, проводив Ситникова в дом, вернулся на берег. Дама, застывшая в неловкой улыбке, ждала.
– Вы не Галечкина ли мама? – с неожиданным для себя радостным волнением спросил Мишка.
Дама утвердительно кивнула головой и движением руки попросила идти с ней:
– Вы тот, кого мне хочется видеть?.. – полувопросительно-полуутвердительно сказала она.
– Я Веренцов Михаил, вы не ошиблись.
– Во-первых, здравствуй, Миша, во-вторых, привет от Гали, в-третьих, привет от Бориса Васильевича, в-четвёртых, это вот тебе, – она подала Мишке свёрток.
Мишку ошеломило это доверительное обращение барыни на «ты».
– Вот что, Миша, я завтра уеду, я здесь уже четыре дня. И видела тебя уже три раза. Видела твою маму в церкви, даже беседовала с ней. Хотелось увидеть папу, но не удалось. Если верить тому, что мы читаем в твоих письмах, то обстоятельства нас вынудят в рождественские каникулы перебраться в Оренбург. Галя уже договорилась о переводе с первого января в оренбургскую гимназию. Оренбург мне понравился, и мы не возражаем против решения Гали.
– То, что я пишу вам, это далеко не всё, что хочется сказать, – медленно и твёрдо говорил Мишка. – Я слов на ветер не бросаю, да и нет причин отказываться от Гали, если, конечно, она не откажется от меня. Я прошу вас передать ей вот что: в ноябре я буду держать экзамен в юнкерское училище, уже есть согласие атамана отдела. И в знаниях своих я уверен.
Они пошли по крутому берегу Урала. Обычно живая, энергичная Мария Павловна сейчас молчала. Молчал и Мишка, переживая нахлынувшее прошлое. Но вот Мишкина спутница вобрала его долгим, испытующим взглядом:
– Ну, хватит, Миша. Иди домой… Не забывай Галю… Если так получилось… И так решили.
Мишка, в душе удивляясь себе, поцеловал Марии Павловне руку:
– Прощайте.
На следующий день Мария Павловна уехала домой, в Калугу.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1.
События совершались своим чередом.
Ввиду некоторых политических соображений Дмитрий Степанович в ноябре не рекомендовал брату держать экзамен. Он приезжал в дом отца грустный, взволнованный, задумчивый. В Оренбурге начались беспорядки. Писал с фронта брат Пётр, что русские солдаты отказываются идти в наступление, что лозунг Керенского «Война до победного конца» фронтовиками не поддерживается, что этому лозунгу противопоставляется другой: «Мир без аннексий и контрибуций, долой войну, вся власть Советам», что русские братаются с немцами и австрийцами, что керенское наступление поддержано одними только женскими батальонами, сформированными в семнадцатом году под названием «Батальоны смерти». Когда эти батальоны пошли в наступление и прорвали три линии неприятельских окопов, то русские солдаты не только не оказали им помощи, но и обстреляли из пулемётов с тыла и фланга. «Батальоны смерти», попавшие под перекрёстный огонь, были скошены, как трава. Верховная ставка разбилась на несколько течений, а бежавший из австрийского плена генерал Корнилов с какой-то группой войск двигается на Петроград. На Дону образовалось какое-то самостоятельное правительство…
Мишка ничего не понимал в этих запутанных событиях, и не было человека, который разъяснил бы ему всё это.
В начале октября в станицу приехал казачий офицер, назвавшийся Чундеевым, на Мишку он произвёл невыгодное впечатление – не то что Саша Ситников, который так и стоял в глазах. Чундеев привёз множество листовок с крупно отпечатанными номерами, означающими различные партии.
На собрании, где присутствовали, к великому удивлению всех, даже женщины, Чундеев объяснил, что казакам нужно голосовать за номер второй:
– Этот номер наш, казачий, нашей отдельной партии. Мы посылаем на Учредительное собрание генерального штаба генерала, атамана Оренбургского казачьего войска Александра Ильича Дутова.
Повторив несколько раз «номер второй», Чундеев предостерёг:
– Если уж кто ошибётся и вместо второго номера проголосует за какой-либо другой номер, то всё ещё не так страшно. Но если проголосует за номер восемь!.. Этот номер самый вредный для нас, этот номер – большевистский. А большевики – это такие люди, которые хотят уничтожить казачество, уничтожить церкви, уничтожить религию, уничтожить частную собственность и семейность. Ну, в общем, чтобы все жили на одном дворе и в одном бараке, мужчины – отдельно, женщины – отдельно, и чтобы никто не знал своих детей и супружества; чтобы всё было общее: жёны, дети, одежда, пища и прочее…
Многие хохотали, некоторые задавали такие вопросы о распределении жён, что докладчик на них не отвечал, а задавший вопрос прятался за других. Некоторые женщины, закрыв лицо руками, бегом бежали с собрания домой, а некоторые в сенях, во дворе пережидали, когда перестанут об этом говорить.
Мужчины как будто ждали такого собрания, чтобы досыта насмеяться.
– Ну башлыки[26], молодцы, – кричали некоторые, – они знают нашу нужду. Мне бабу давно уж сменить надо, подносилась, холера… Вот раздолье-то будет.
– Нет, мы не жалам, на черта вы нужны, старые черти, –– шутили молодые, – меняться будем. Чур, каждый к своей пойдёт.
Чундеев призывал к порядку станичников, отвлёкшихся от основного вопроса, потом провёл голосование.
За некоторыми убежавшими женщинами ходили на дом по два-три раза.
Как ни предостерегал Чундеев от восьмого номера, а в результате подсчёта голосов оказалось, что семь человек проголосовали за этот номер. И двое – за анархистов. Чундеев уехал…
2.
Тем временем австро-германский и турецкий фронты рассыпались. Всё чаще стали возвращаться оттуда казаки. Приходили они как бы крадучись, долго не появлялись на улицах, стыдились. Вновь появившегося старики высмеивали, иронически спрашивали: «Ну что, отвоевался? Сколько орудий сменял немцам на табак? Вояки, навоевали, вашу мать…» – сплёвывая со злостью в сторону, отходил старик, не прощаясь, а встречался – не здоровался. Бежали казаки и в одиночку, и группами. Бежали и из-под Петрограда, разбитые в армии Корнилова Петроградским гарнизоном, бежали из гвардейских частей и из «доблестного, непобедимого» 4-го Оренбургского казачьего полка.
Пробывших более трёх лет на передовых позициях, поседевших, постаревших, чудом спасшихся от смерти родных и знакомых встречали недружелюбно. Даже ближайшие родственники не только не устраивали никаких встреч, но и разговаривали с ними насмешливо, укоряюще.
Если сосед лукаво спрашивал: «Никак сынка, кум, дождался с фронта?» – тот отрицал новость, а сыну запрещал появляться на улице, и сын никуда не ходил, даже к тёще в гости, чтобы не засмеяли из-за него и отца…
Заметно было, что фронтовики всем были противны, станица разбилась на два лагеря: на стариков, к которым примкнули молодые, не служившие в армии – на одной стороне и фронтовых людей – на другой. Офицеры и антибольшевистски настроенные фронтовики поддерживали стариков.
Уже шёпотом стали передавать друг другу, что со стороны Самары какие-то большевики идут на Оренбург, и фронт прошёл уже Бузулук. Большевики идут уничтожать казаков под дугу. А казаки из Оренбургского гарнизона против большевиков не идут. Фронт держат только офицеры, кадеты, гимназисты да реалисты. Со всего видно, что нам, казакам, приходит конец за то, что мы всегда в огонь и воду лезем, защищаем Россию, а большевики-то ведь за немцев, у них солдаты – только евреи да каторжники. А ихние главари от немцев деньги получили, чтобы Россию ослабить, ну, а они и ещё грабят.
Грань меж домашними и фронтовиками тем более резко обнажалась ещё и потому, что большинство пришедших с фронта были, как говорили, большевистски настроены. Они говорили, что при переходе через фронт, около Бузулука, большевики их радушно встретили, накормили и сказали: «Если хотите, то вступайте в наши ряды, будем вместе у буржуев и офицеров брать Оренбург, а не хотите, ступайте через фронт домой под честное слово, что не присоединитесь к белым против нас». «А когда мы им ответили, что война уже надоела, ни к кому присоединяться не будем, кроме как к своей бабе, то большевики посмеялись и нас отпустили, тепло попрощавшись».
Фронтовики уверяли, что большевики совсем не собираются уничтожать казачество, кроме помещиков да фабрикантов, передав их богатство народу, то есть фабрики и заводы – рабочим, а земли, леса и все недра – крестьянам, что трудовой казак или крестьянин не рассматривается «эксплуататором», против которого только и идут большевики, что солдаты у них не евреи и каторжники, а чисто русские – фронтовики или рабочие и крестьяне, вошедшие в Красную Гвардию добровольно.
– Ни чёрта не пойму, – говорили старики, – сын пришёл с фронта, дак расхвалил этих самых башлаков чёрт-те как, инды пальцы оближешь, а зять пришёл – на все корочки их чепушит, что я уж хочу вилы брать, да бежать на Оренбургский фронт, Дутову помогать. И сын врать не будет, и зятю я всегда верю. Вот теперь как хочешь, Степан Андреевич, так и рассуждай.
– А я никому не верю, как только одному сыну Мите, – печально заключал Веренцов. – Он умный, рассудительный, это каждый скажет. Он прямо говорит, что большевики – шарлатаны, обманщики, вруны. Они всё отберут и у богатых, и до бедных доберутся, и никому ничего не дадут. Они, как змеи, извиваются, а политика у них: ограбить, расстрелять. Казаков они, как чёрт ладана, ненавидят. Сперва, может быть, и отпустят подпруги, а потом как подтянут, что задохнёшься. Вот и весь сказ.
– Ну уж я теперь ни ялды не пойму – безнадёжно махнув рукой, уходил от Веренцова сосед.
Перед самым Рождеством народ шёпотом передавал друг другу новость: ночью, когда стихает шум, в северо-западном направлении от Оренбурга слышны орудийные выстрелы. В газете прошло сообщение о том, что фронт уже около станции Платовка. Через несколько дней выстрелы можно было слышать и днём.
3.
Мишка подходил к дому. В прихожей горел свет. Мишка вошёл в избу и увидел беседовавших стариков: отца и свата. Вначале старики смутились, но Мишка, догадавшись о теме разговора, вставил несколько замечаний о Дутовском фронте. Тогда Степан Андреич подал знак свату.
– Дак вот, Степан Андреич, – продолжал сват, – я своими мозгами так думаю: не может быть, чтобы эти башлаки так делали, как нам про них говорят в городе купчишки. Им ведь, сват, никак нельзя верить. Они боятся, что у них магазины отберут, а нам с тобой чего бояться? Ведь у нас магазинов-то нет.
– Нет, сват, ты сам уж совсем, я вижу, в башлаки записался, – заметил, смеясь, Веренцов, – я уж как-то немного рад, как ты станешь так говорить, будто и на сердце не так тяжело. Что правда, то правда, казаки не должны бояться, ну, а всё-таки, сват, я боюсь. Как ни утешай себя, сват, но они несут горе.
– Да нет, ничего, что будет, то будет, – махнув рукой, встал сват. – Ну, я засиделся, пойду, наверно уж часа два есть. Мы вчера у нашего Василия сидели чуть не до петухов. И всё про это, и всё про это. Где ни послушаешь – всё про этих башлаков проклятых. Ни дна им, не покрышки. Ну, прощевайте!
– Вот что, сынок, время нехорошее настаёт, – сказал вкрадчиво Степан Андреевич, как только за сватом закрылась дверь, – сколько ни утешай себя, а я прямо скажу, что много будет горя. Коня надо подкармливать. Тебя могут, как с полки, сразу выдернуть на фронт. А на фронте для казака конь –это всё. Конь может жизнь спасти и может жизнь погубить. Теперь твою верховку запрягать не будем, пусть гуляет. Может быть, ей с тобой вместе много горюшка придётся хватить… Вот Митя у меня, как камень на сердце, лежит. Где он теперь, милый мой сыночек, мой красавец, может быть, и живого уж нет. Вот сейчас сват говорил, что он от надёжного человека слышал в городе, что Митя на фронте под Бузулуком кадетами и гимназистами командует, а они, говорят, все молодые, прямо мальчишки. Ну что с них возьмёшь? Ты сам посуди. Но вот Митя, наверное, во все опасные места сам и лезет. Ох, Боже мой, Боже мой. Ведь только подумать, о нём уж третью неделю ничего не слышно…
Мишка вышел во двор, дал коню овса.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1.
На первый день Рождества, когда всё было приготовлено к празднованию, обедня началась, как всегда рано, как будто для того, чтобы не отнимать день у веселья. В этом случае дня всегда не хватает.
Церковь битком набита народом. Если в последние годы собирались лишь женщины да старики, то теперь в станице появилось много казаков средних лет, много их пришло сегодня сюда, некоторые в военной форме с крестами до полного банта и с медалями.
В церкви уже царили какое-то успокоение и радость.
Несмотря на то, что женщинам полагалось быть врозь с мужчинами, жёны прибывших с фронта не хотели отдаляться, стояли рядом с мужьями, как под венцом. Будто чувствовало сердце, что скоро придётся расставаться вновь.
Детишки цеплялись со всех сторон за руки отцов, беспрерывно заглядывая в глаза родителям. Свои казались красивей и милей всех других. На друзей-счастливцев завистливо смотрели не дождавшиеся отцов. Таких было немало, их милых родителей оплакивали мамы, когда появлялся в станице новый «походный», прижимали к себе головки своих малюток, причитывали горькие, душераздирающие слова…
В храме прошло движение. Фронтовики и старики передавали шёпотом какую-то весть. Лица грустнели и строжали. Каждый хотел скорейшего окончания обедни. Люди переминались с ноги на ногу, беспокойно оглядывались по сторонам.
Наконец стали прикладываться к кресту, после чего в обычное время поздравляли друг друга, предварительно приглашали в гости, хотя после обеда каждый посылал за гостями специального гонца. Но сейчас не до гостей было тревожным жителям.
У церковной ограды собиралась толпа вокруг остановившегося там атамана. Он ждал, когда все выйдут из церкви.
Атаман взошёл на крыльцо церковной сторожки, указал жестом казакам обождать. В ожидании приговора не уходили и казачки. Атаман снял шапку, в волнении перекладывал её из одной руки в другую.
– Господа старики, – сказал он, – как вам всем известно о фронте, который уже почти у стен нашей казачьей столицы Оренбурга, вчера, 24-го декабря, фронт продвинулся ещё ближе. Большевики идут напролом, им скорее хочется овладеть городом, разграбить церковное добро, надругаться над религией, надругаться над нашими жёнами и детьми, а нас уничтожить. Истинные сыны Родины и казачества истекают кровью на Оренбургском фронте, они отстаивают каждую пядь казачьей земли от озверелых банд красных большевиков. Наш славный атаман Александр Ильич, генерал Дутов[27], передал просьбу всем верным нашим сынам и братьям: взять меч и встать на защиту нашего казачества, на защиту Оренбурга. Повторяю, лучшие наши сыны истекают кровью, – он взглянул на строгое лицо Степана Андреевича, имея в виду Дмитрия на фронте, – они просят вашей помощи. Так вот, станичники, сегодня, как только разговеетесь, все мужчины, способные носить оружие, в ком бьётся кровь казака, собирайтесь к правлению и поедем в город, в распоряжение нашего войскового начальства. Атаман Дутов сегодня на фронте, его замещает другой, он скажет, что нам делать: на фронт идти или пошлёт нас домой. А долг нами будет выполнен. Сейчас разговляйтесь и скорее седлайте коней.
В некоторых рядах шептались, почти все фронтовики без слов направлялись домой. Их жёны кричали: «Пусть повоюют те, которые не воевали, наши навоевались».
Старики шли домой хмурые, злились на фронтовиков, которые, как видно, не хотели помогать Дутову. Желание стариков помочь своему атаману поддерживала всегда воинственно настроенная молодёжь, пока вокруг не свистели пули, быстро гасящие пыл храбрости.
В это Рождество из-за прибывших с фронта близких, с которыми не виделись более трёх лет, нужно было ожидать сумасшедшего празднования, но после обеда не слышно было не только песен, но даже гармошек – всегдашнего начала веселья вольной, беззаботной молодёжи. Всех захватила невзгода, все чувствовали надвигавшуюся катастрофу, не знали только, какую.
Через час после обеда к станичному правлению стали съезжаться подводы, больше на санях по трое-четверо казаков. Добровольцы – слишком зрелые и слишком молодые. За редким исключением фронтовое казачество не поехало.
Фронтовики сидели в хатах, пили самогон, на улицу не показывались. Было грустно, печально, жутко. С фронта доносились частые, глухие орудийные выстрелы. Станица казалась полумёртвой.
2.
Нескончаемая вереница саней и верховых направилась к Оренбургу. Через два часа колонна въехала в город, заворачивая к правлению первого округа Оренбургского казачьего войска. Там получили предписание разместиться в пустом здании духовной семинарии и ждать распоряжений. Вся орава ввалилась в одну из огромных комнат, где и началась попойка по случаю праздника Рождества.
Помещение понемногу наполнилось песнями и плясками, потом стали мазать друг друга сажей, распоряжений же всё не было. Войсковое начальство, видимо, забыло о поступившем подкреплении из Благословенной или уверилось, что всякая помощь теперь бесполезна. Почти весь отряд был без оружия. Вооружены были лишь те, у кого в хозяйстве оказалась винтовка, полученная с фронта от родственника.
Мишке было не до смеха. Он всё думал о Дмитрии. Ему казалось, что это он там, на фронте около станции Гамалеевка, стоит у орудия и стреляет – голодный, озябший, похудевший, обросший. Когда слышались выстрелы, Мишке хотелось бежать туда, сменить брата, встать на его место, дать ему отдохнуть, научиться стрелять самому, научиться быть офицером, научиться воевать. Хотелось, чтобы Митя был здесь, вместе с другими, чтобы видеть его веселье, слушать его шутки. Но Мити нет и будет ли он вообще когда-либо… Слёзы подступали к горлу, Мишке хотелось плакать, он сидел в углу, смотрел на всех и ничего не видел.
Отряд решил вторично послать представителей к войсковому начальству, чтобы договориться о месте на фронте и вооружении.
Заметно уже было, что приехавшие на помощь Дутову в такой великий день пьянства заскучали по своим домам и не находили ничего приятней, как ускользнуть сейчас восвояси. С таким настроением и отправилась делегация. Не дожидаясь её, некоторые стали потихоньку запрягать коней и под предлогом съездить напоить их удирали домой, беспрерывно оглядываясь, как бы не увидели их «военный пыл». Вернувшиеся делегаты объявили, что они поскандалили с начальством из-за вооружения, и сказали, что колонна помогать фронту не будет и сейчас уедет домой.
Не дослушав их до конца, бравые вояки во всю мочь закричали: «Домой, домой!» – и бросились к коням.
Через несколько минут все в несколько рядов скакали по улицам Форштадта к выезду на свою дорогу. Горе встретившимся с этой дикой скачкой людям, животным – всё попиралось в прах. Исступлённо кричали и ругались с теми, кто появился на пути и мешал ездить людям, проливающим кровь…
Мишка был недоволен таким оборотом дела. Сегодняшний случай, по его мнению, был сорван оставшимися дома фронтовиками.
Это они, мерзкие, сдружившиеся на германском фронте с большевиками, не дали возможности Мишке быть в сформированном сегодня полку, это они не хотят помогать брату Мите, с которым Мишка мечтал встретиться на фронте. Злой, убитый горем, он не заехал даже к сестре, а тихо, нога за ногу, поехал по дороге к своему дому в станицу, но ехал будто не домой, а из дома.
Надвигались сумерки. На полпути он увидел скачущих навстречу пьяных на двух санях. Они громко, беззаботно пели и балагурили. Подъехав вплотную, во всё горло закричали: «Миша, Миша, садись с нами, поедем назад в город, гулять!» Схватили Мишкиного коня за повод. Мишка молчал, испытующе смотрел на сельчан, наконец спросил, почему они не поехали на призыв Дутова. Те ответили, что они от большевиков не намерены отстреливаться ничем, кроме, как вот этой штукой – и показали бутылку с самогоном. Мишка побледнел, демонстративно вырвал повод коня и поскакал по дороге к станице.
Друзья долго смотрели Мишке вслед, а потом молча сели в сани и без песен, как-то стеснённо, тихо поехали своей дорогой в гости. Им была понятна Мишкина злость, как понятно и то, что теперь придётся иметь неприятности со всеми Веренцовыми…
3.
В ночь под пятнадцатое января украдкой приехал домой Дмитрий. Дома ему сказали, что с фронта вернулся брат Пётр, живёт с женой у отца. Пока никуда не ходит, видно, стыдится людей.
Небритый, осунувшийся, с диким, затравленным взглядом, Дмитрий рано утром, когда было ещё темно, пошёл к отцу. Его не видели уже шесть недель. Степан Андреевич жарко здоровался с сыном. Только от него он мог узнать настоящую правду. Неведение личного будущего, положения казачества грызло Степана Андреевича с тех пор, как стал доноситься грохот орудийных выстрелов – с тех пор Веренцов не знал покоя. Он несколько раз ездил в город, чтобы от хороших людей узнать, что делается на фронте, что ожидает казаков, если большевики займут Оренбург. «Хорошие знакомые» – купец Илья Петрович Ефимов и есаул Василий Петрович Прытков – рисовали самыми чёрными красками картины, если город будет сдан большевикам. Но положение на фронте Платовка–Гамалеевка–Новосергиевка, мол, не так уж и безнадёжно. Если бы вы, казаки, взялись дружно, то, мол, Оренбурга большевикам, как ушей своих, не видать.
Из Оренбурга Степан Андреевич приезжал чернее тучи, отказывался от еды, от самогона. Он знал, что Митя на фронте отстаивает родной город от каких-то пришельцев, которые хотят казачество уничтожить, скотину согнать на один двор, сундуки вытряхнуть в один амбар, всех баб в один дом, мужчин – в другой, ребятишек – в третий, и все эти дома закрыть на замки и отгородить друг от друга колючей проволокой.
Степан Андреевич был рад, что сын Митя держит Оренбургский фронт. Если бы ему сказали, что сын убит, то отец весь век гордился бы этим – мол, сын погиб за безопасность и непоруганность отца и матери, жены и детей, казачества и религии. Погиб за такое дело, за которое никто ещё в истории не погибал.
От пришедшего с фронта среднего сына он ничего толком не добился. Пётр стал расхваливать большевиков и успокаивать отца так, что Степан Андреевич больше расстроился. Теперь он чувствовал, что сшит с обеих сторон, как иглами: с одной стороны – печаль о старшем сыне, с другой – злоба на среднего, который не беспокоится за казачество, превратившись на германском фронте в большевика. Теперь утешения ждать только от Мити.
И вот сегодня рано утром, внезапно он увидел своего сына, Митю, на пороге родного дома. Отец чуть не до слёз обрадовался этому милому, дорогому гостю, будто не рассчитывал уже встретиться с ним. Приближение выстрелов означало, что большевики движутся к Оренбургу, а раз так, то они, может быть, уже перешагнули через труп сына. Ведь не такой Дмитрий, чтобы отступать, не таковы Веренцовы.
Но вот Митя на пороге дома. Отец недоумевающе смотрит на сына, радость смешалась с испугом. Измученный вид Дмитрия кольнул отца в самое сердце. Степан Андреевич долго не мог выговорить ни слова, смотрел на улыбающегося, не проходившего вперёд от порога сына. Дмитрий мял в руках заиневевшую офицерскую папаху, потом тихо сказал:
– Здравствуй, тятя! Здравствуй, мама!
– Здравствуй, милый мой сыночек! – тихо заплакала Елена Степановна.
– Здравствуй, Митя! – тихо, чуть не шёпотом, сквозь слёзы сказал Степан Андреевич, озираясь по сторонам, будто их разговор могли подслушать. – Ну как же, сынок, эти большаки, идут, штоль? – спросил он.
– Да как же они не будут идти, если никто не хочет защищать наш родной казачий Оренбург? Вот эти оборванцы-то, вроде нашего Петра, бегут с фронта: и тот бросили, и на этом воевать не хотят. Даже офицеры не идут против них, этих красных. Эти офицерики, из родовитых семей… Пришли к нам на позицию, дали им участок, а они воткнули винтовки в снег и ушли в Оренбург. Да я бы на них на всех одного кадета или гимназиста, которыми командовал, не поменял. Вот как они поддались агитации большевиков. А те пройдут, всё равно с них шкуру спустят, сегодня или завтра большевики будут в Оренбурге.
– Боже мой, Боже мой! Ведь они же, сыночек, побьют вас, постреляют, – тихо голосила мать.
Пришибленный, разбитый, разом ослабший Степан Андреевич сел на нары, опустил бороду на грудь.
Дмитрий был жесток, зол, неумолим. Как видно, не на одном десятке красногвардейских голов он уже пробовал свою шашку и револьвер-кольт и теперь чувствовал надвигающуюся расплату – глаза были дикие, страшные, озирающиеся.
– Уж видно, что Бог даст, – сказал он, – будем на Бога надеяться. А где же этот вояка-то, там, в той избе, штоль? – спросил он родителей. Степан Андреевич утвердительно кивнул головой и махнул рукой в сторону горницы с другим ходом, через коридор. Дмитрий криво усмехнулся и быстро, решительно вышел из комнаты.
Мишка лежал на кровати, ему не хотелось вставать, хотелось понежиться – помогать отцу по двору выходил в эти дни Пётр. Тот в это время уже собирался, а его жена оделась помогать Елене Степановне.
Дмитрий вошёл в горницу, не взглянув в сторону Петра и его жены, равнодушно сказал: «Здравствуйте» – и прошёл вперёд.
Услыхав голос Дмитрия, Мишка вскочил, перешагнул через Наташу, торопливо одевался на полу около кровати в спальне, наблюдая за Дмитрием сквозь стеклянные двери.
Дмитрий прошёл два раза поперёк зала, стал смотреть на давно известные ему фотокарточки, как будто видел их в первый раз. С братом Петром он будто виделся только вчера и поговорить с ним было не о чем.
Наконец со злобой, дрожащим голосом Дмитрий спросил:
– Ну как дела, братан? Как же вы это фронт бросили?
– Да я с фронта-то и так чуть не последний ушёл, – тихо, с расстановкой ответил Пётр.
– Ну, а Оренбург, свой родной город, почему не хотел защищать?
– От кого защищать? Здесь ни германцев, ни австрийцев нет.
– Как «от кого»? А эти супостаты-то идут, враги человечества? – спросил брат.
– Какие враги? – иронически, с улыбкой говорил Пётр. – Они нам не враги. Они враги буржуям, золотым и серебряным погонам. Пусть защищает тот, кто порохового дыма не нюхал, да тот, против чьих интересов большевики, а я не буржуй и не офицер…
Напряжённые за последнее время нервы кидали Дмитрия на все стороны, ноги дрожали, рот кривился в язвительную гримасу, он ходил по комнате, не мог говорить, несколько раз хватался за бок, где всегда был кольт, злился, что оставил его дома – он сейчас бы разделался с братом.
– Подлецы, негодяи, кто так думает, и ты подлец, негодяй, мерзавец, изменник. Проснётесь, мерзавцы, но будет поздно. Нас выбьют, постреляют, это я знаю наверняка, но и вам, негодяям, тем более, казакам, житья не будет, и вас уничтожат. Вы – предатели, вы предаёте нас, своих братьев, предаёте казачество, предаёте самих себя, – дрожащим голосом говорил Дмитрий. – Миша! Где ты там? Я к тебе пришёл, мой милый брат, я соскучился о тебе, ты у меня один брат остался, наш брат нас покинул, предал нас, он передался нашим врагам.
Пётр продолжал невозмутимо одеваться и улыбаться.
Мишка негодовал на брата Петра. Он, как и всегда, поддерживал Дмитрия. Он выскочил из спальни, крепко обнял брата. Они несколько раз расцеловались. Дмитрий долго держал Мишку в объятиях.
– Миша, может быть, в последний раз видимся, – сказал Дмитрий, – уберёшь скот, приходи ко мне – там выпьем, поговорим кое о чём.
Пётр прошёл мимо них во двор.
В крепкий узел завязалась меж кровными братьями тяжкая рознь. Катастрофу нужно было ожидать со дня на день…
Отец, Пётр и Мишка ходили по двору, молчали. Чувствовалось непоправимое.
4.
Через два дня приехавший из города сосед, не отпрягая коня, робко вошёл во двор Веренцовых, прошёл в дальний сарай к Степану Андреевичу и дрогнувшим голосом сообщил, что вчера в Оренбург вступили большевики. Веренцов побледнел, деревянная лопата выпала из рук. Новость сейчас же передали Дмитрию, и он в ту же ночь выехал.
Позднее Степана Андреевича уведомили, что его сын около Орска вместе с атаманом Дутовым.
Весть о занятии Оренбурга Пётр встретил совершенно равнодушно. О Дмитрии ему не сообщили.
Несколько дней казаки ближайших к городу посёлков и станиц не ездили с продажей в город, а посылали своих жён:
– Ты там всё разузнай: посмотри, какие они, правда ли, что все они русские или какие нехристи, как говорят. Съезди к собору и к монастырю, посмотри, не закрыли ли эти храмы Божии да не сняли ли кресты. Да не вздумай сказать, что ты казачка, а то они живо загонят на общий двор, наделаш тогда делов, язви те. Ну, поезжай с Богом, – провожая, напутствовал муж.
Вступившие в Оренбург советские части почти ничем не отличались от самых обыкновенных, всем известных солдат русской армии. Красногвардейцы в большинстве своём были те же солдаты с австро-венгерского фронта. И лишь когда Красная гвардия стала пополняться местными жителями, появились люди в штатской одежде с винтовками вперемежку с солдатами-фронтовиками. Они ходили по городу, несли какую-то внутреннюю службу.
В оренбургской печати замелькали фамилии нового городского начальства: Каргины[28], Кобозев[29], Коростелёв[30], Цвиллинг[31].
Ни новые власти, ни войска из города не выезжали, поэтому станицы и посёлки жили обособленной от него жизнью. По предложению фронтовиков в некоторых казачьих станицах были образованы комитеты во главе с председателями, в некоторых – сельские советы, в-третьих – избраны атаманы из бедных, в-четвёртых и атаманы, и председатели, в пятых – ни председателя, ни атамана, ждали директив из города. В общем, получилась неразбериха, трудно было понять, где какая власть.
Вернувшиеся из города женщины говорили, что там всё спокойно, никто не спрашивает проезжающих, откуда он, казак или не казак, будто власть не менялась.
Благословенцы тоже решили переизбрать атамана. Прежний – из зажиточных – сам требовал того.
– На сходку идите, атамана выбирать! – кричали огнёвщики[32]…
В школе, где уже привыкли собираться, было, как в пчелином улье. Шутки, смех, острые слова по адресу некоторых, впервые появившихся на казачьих сходках женщин, казалось, не переслушать за неделю.
Темой разговора и острот опять-таки был вопрос об общих дворах для женщин и мужчин. Наконец у стола встал атаман, призывая к порядку и тишине, которая никак не могла водвориться среди бушевавшей толпы.
– Господа старики! – с обычных слов начал атаман. – Большаки бедным людям велят управлять казаками, а богатых, что ни на есть, к чёртовой матери. Я уж боюсь в город ехать, чтобы там ухо не приклеили, язви их в рожу. Дак вот, надо атамана какого победнее выбрать. Вот и давайте, кого хотите.
– А может, они и тебе вязы не свернут, останься, а? – кричали с парт. – Они только, говорят, генералов да помещиков, да купцов из шкуры вытряхивают, им черева выпускают, а казаков, бытты, не трогают, можа, послужишь? А?
– Нет-нет, господа старики, ради Бога, ослобоните, у меня и так инда рубашка трясётся, не могу, не останусь.
– Ну кого же, господа старики? Давайте, раз уж так просят. Сильничать человека не надо, – сказал кто-то.
Сидящие за партами стали группами советоваться о кандидатуре и тут же вступали в спор меж собой или с тем, кого выдвигали. Из-за парты встал казак, выступление которого всегда считали авторитетным.
– Моё мнение такое, – сказал он, – надо и атамана, и председателя сделать. Если Дутов приедет, то мы атамана подсунем, а если большаки явятся да скажут: «А ну, покажь нам свою власть на селе», то мы атамана-то спрячем, а покажем председателя. А?
– Нет, нет, не жалам так, – кричали от порога, – ежели у нас будет атаман, большаки ничего не скажут, мы скажем, что не знали, что к чему и как. А вот ежели Дутов с Митрием Веренцовым нагрянут, да прихватят нас с эфтим присядателем, то мы и требухой не разделаемся. Вот как.
– Знамо, знамо так, – кричали с мест, – не жалам двух. С чеблаками-то ишша как-нибудь докалякаемся, а уж ежели Дутов, то хоть сёводни в поминанье записывайся.
Со всех сторон кричали: «Правильно!». Первого оратора никто не поддержал. Не менее часа атаман сидел за столом, ждал, когда люди успокоятся и остановятся на ком-либо, но некоторые уклонились от основного вопроса, перешли на другую тему и скалили зубы с разомлевшими от жары и стыда бабами, не успевшими сбежать домой. Атаман уж было задремал, но вскочил, стукнул кулачищем по столу и заорал во весь бас так, что все притихли, как в зверинце, когда заревёт лев:
– Дак вы что, холеры, дождусь я вас альбо нет? Вы дело делать альбо зубы скалить? Вы чё, сёдни дрыхнуть не хотите? До третьих петухов ошшеряться будете?
Встал за партой один пожилой казак. Все повернули к нему головы.
– Моё мнение, сказал он, – надо Митрия Титыча атаманом посадить. – Он – показал пальцем на красивого мужчину с чёрной, как смоль бородой.
Тот злобно блеснул угольными глазами на непрошеного избирателя и отвернулся в сторону, шептал ругательства.
– Митрий Титыч не жалат, – заметил кто-то.
– Выберем, дак будет служить, никуда не денется, – поправил его сосед.
– Ну тогда ево, так ево. Титыча! Титыча! – кричали со всех сторон. – Знамо, хороший мужчина, хороший атаман будет, кого ещё искать? Жалам ево, он славный казак, вот только водку почти не пьёт, вот это как-то не того, – смеялись некоторые.
– Чёрт с ним, научится, под старость пригодится и это, – говорили другие.
Всё школьное помещение снова гудело. Некоторые уже опять перешли к вопросу об общих дворах и кричали, что, мол, нужно выбирать здорового и красивого атамана на случай, не дай Бог, если когда-нибудь придётся ему, бедняжке, одному отдуваться за всех на общем бабском дворе. Шутники знали, что Титович не любил пригреваться около женщин, поэтому старались подчеркнуть, что, мол, и этому ремеслу необходимо научиться новому атаману, язви ево.
Едва ли в таких случаях считались с несогласием избираемого, сход постановил – и закон, но Дмитрий Титович всё-таки встал, поднял руку, потом опустил её, снял обеими руками треух, повернул голову направо и налево: чёрные кудри упали на чистый лоб; шапку он держал перед собой.
– Дак вы чё, господа старики, – мать-перемать, – крепко и спокойно ругался Титыч, – вы чё, трибуналу меня отдать хотите? Да разве можно в едыкое время служить? Вы чё, хрен вам в лёбры, с ума сошли?
– А чё особенного? Ну не понравится, дак кинешь эфту работу, другова выберем, – кричали с мест, – а может, башлыки-то ничего, вон сказывают, они тоже хорошие ребята. Соглашайся, Митрий! Ну не супротивничай, Титыч, тебя ведь всем обчеством просим! Ну пожалей нас, чёрта бы тебе в зубы!
– Ну ладно, заткнитесь! Чё разорались? – согласился кандидат. – А уж если в случае чё, то тогда и в правление из дому не пойду, сами управляйтесь.
– Ну, то-то и оно, давно бы так, вот и спасибо, – кричали ему, – ха-ха-ха, поманили ево опчим бабьим двором, сразу согласился, вишь, сидит и облизыватца. Кому не захотится на бабах-то покататца – кааажному. – С дальнего ряда кто-то громко крикнул: «Титыч! Ты смотри, если моя баба попадётца, дак ты не сильно жми, пожалей – кума жа! – Поднялся оглушительный хохот. Новый атаман смеялся, грозил кулаком в сторону друзей-насмешников…
Начался магарыч. Задымились самогонные аппараты, подставляли рты под капающий самогон, ложась на спину. «Обмывали» нового атамана. А через неделю, проспавшись, Титыч поехал в город. Вечером вернулся обратно и, не отпрягая коня, быстрыми шагами пошёл в станичное правление.
Через час школа была полна народом, собранным туда на какой-то позарез экстренный сход.
Обеими руками поднял атаман лежавшие на столе карандаш, ручку и лист бумаги, посмотрел на все стороны, запальчиво сказал: «Вот вам хомут и дуга, я вам больше не слуга, пошли от меня к протакой…» – надел треух, невозмутимо ушёл домой.
Свистели, смеялись, кричали ему вслед, но атаманить всё же пришлось старому атаману, законному, утверждённому войсковым кругом.
5.
Вскоре после прихода Красной Гвардии в Оренбург Мишка с матерью собрались туда с продажей, чтобы посмотреть большевиков. Степан Андреевич энергично уговаривал сына не ездить, пусть, мол, немножко успокоится время, зачем лезть на рожон – недолго пропасть.
– Мишка, ведь тебя любой узнает, что ты казак: и по шапке, и по рылу, и кушак у тебя голубой, – уговаривал отец. – А разве долго им тебя к стенке поставить? Если они идут против казаков, как говорят, что они всех казаков хотят уничтожить, то им когда-никогда, а убивать нас надо, – жалобно, с болью говорил постаревший за эти дни отец. Мишка отмахивался, не слушал, собирался. Веренцов шептал жене, чтобы она там не отпускала Мишку никуда.
– Возьми вон лучше Петра, он наденет свою шинель, ну, солдат, да и только, – уговаривал Степан Андреевич – да он и говорить-то с ними знат как. А этот ведь дурак дураком, тут же насупротив попрёт. Как тогда: я же был виноват, пьяный городовому оглоблей в спину заехал, а когда городовой назвал меня пьяной харей, он стал с городовым драться. А потом ускакали на Деевскую площадь.
В городе, на зелёном базаре Мишка увидел группу вооружённых людей в военной и гражданской одежде с винтовками, карабинами и охотничьими ружьями. Мишка подбежал поближе. Их было восемь человек, направлялись они по Инженерной улице. Мишка поравнялся с ними, стал заглядывать сбоку в лица. Военные обратили внимание, как видно, такое было не впервые.
– Ну и этот смотрит, как на волков, – заметил один.
– Это правда, – сказал Мишка, – я для этого и из деревни приехал, чтобы посмотреть и передать там о вас. А то там всякое говорят.
Красногвардейцы приостановились, шутили с Мишкой. Они ему понравились, не казались опасными. Он вернулся к бледной матери весёлый и довольный. А дома рассказал об этом только своим семейным, с посторонними не делился, чтобы не посчитали «большевицки настроенным»…
Отъехавшие из ближайших к городу станиц жители стали потихоньку, робко возвращаться домой. Через неделю вернулся и Дмитрий Веренцов.
Подавленное вначале настроение стариков теперь повеселело, подбадривалось фронтовиками, уверявшими, что они были правы, говоря: большевиков бояться не нужно, с ними можно жить так же, как и при любой власти. По просьбе старого атамана он всё же был заменён, на всякий случай, более бедным. Всё пошло хорошо.
Офицеры и казаки, энергично выступавшие на собраниях против большевиков или боровшиеся с ними на Дутовском фронте, стеснялись ходить по улице. Дмитрий Степанович избегал встречи с братом Петром – неудобно было за недавнюю сору. Офицеры станицы говорили меж собой: «Если бы большевики нам простили и призвали в армию, с удовольствием бы к ним пошли. Ведь нам здесь делать нечего, мы – военные, хозяйства у нас нет. Пошёл бы к ним даже и Дутов, один бы он без нас не остался. Оказывается, большевики совсем не такие, как нам говорили, и как мы думали сами». Но некоторые уверяли: «Подпруги нам отпустили временно – их скоро подтянут»… То же доказывал и Дмитрий Веренцов.
Из Оренбурга вдруг поступила директива: атамана быть не должно, выбрать председателя. Это озадачило станичников, стали собираться группами, шептаться: сперва, мол, атамана не надо, а потом и нас всех под спуд. Фронтовики уже советовались со стариками и офицерами: «А не на самом ли деле так получится, что казачество ликвидируют?»
Шёпотом вдруг стали передавать друг другу: в Оренбурге расстреляли казачьего генерала Хлебникова. А он, якобы, совсем и не воевал против большевиков на Оренбургском фронте. Вот что они сделали, такие-сякие, ругались казаки.
Но всё это забылось бы. Ну, расстреляли ведь генерала, а не казака… Но как гром при ясном небе: разрушена статуя казака в Оренбурге на Форштадтской площади – казак на коне в полном боевом вооружении выехал на пригорок, всматриваясь в даль.
Это событие встряхнуло всех. Рушились радужные ожидания совместной, мирной жизни с большевиками. Засобирались, зашептались злобно: «Казака не надо, разломали, разбросали, значит, им всех нас не надо? Правду говорили офицеры, что они идут уничтожать нас…»
Офицеры и все противники новой власти повеселели, шутили над фронтовиками: «Ну как, поедем к своим друзьям-большевикам в Оренбург чай пить?» Всколыхнулось казачество, стало сливаться в один дух, рознь, как клином, вышибло, с часа на час ждали вспышки.
Разрушение статуи, мелочь на первый взгляд, заставило казаков-фронтовиков согласиться с непримиримыми станичниками: молодёжью и стариками, пересмотрели фронтовики свою позицию «не сопротивляться большевикам». Останься она, казачьи посёлки и станицы, где ведущую роль играли фронтовики, никогда не поддержали бы Дутова, а потом и Колчака.
Вокруг Илецкой защиты уже шли какие-то бои, но кто с кем дрался, нельзя было понять, и проверить – тоже. Лежали глубокие снега. Всё ещё продолжали идти с фронта казаки и солдаты, лояльные к большевикам, но дома их сейчас же разубеждали, и они присоединялись к общему настроению.
Ехавшие с продажей в город мимо разрушенной статуи казаки злобно отворачивались и сплёвывали, как будто видели там призрак разрушителя казачьей традиции. Встретившись в городе с красногвардейцами, скрипели зубами.
Дмитрий стал ходить к отцу. Он уже разговаривал с Петром наедине. Уже и шутили порой. В довершение дружбы стали и выпивать, но политических тем старались не трогать. Дмитрий был уверен, что брат понял своё заблуждение и разделяет его взгляды, а больше ничего не надо, лишь бы, при случае, не оказаться в противных лагерях…
Слухи о том, что верхушка в станицах, возглавляемая офицерами-фронтовиками, разбежавшимися из Оренбурга, агитирует против Советской власти, родили спущенную в сёла и станицы директиву о выдаче всех офицеров и реакционно настроенных. Директива эта окончательно обозлила казаков – они, а с ними и все стали собираться вокруг офицеров и Георгиевских кавалеров, в которых теперь видели опору в борьбе с нарушителями их традиций, посягателями на существование казачества.
Набаты и собрания до глубоких ночей чередовались беспрерывно. Горячие велись споры. Приходили к убеждению, что мирно прожить с большевиками не придётся, рано или поздно, а столкновения не миновать, нужно быть настороже и живым в руки не даваться. Офицеров в станице было около десяти. Георгиевские кавалеры, имеющие полные банты, присоединились к ним, а значит, и к их политической участи…
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1.
В ночь на двадцать второе марта[33] 1918 года Пётр и Мишка спали на своих постелях. В школе ещё шумело какое-то собрание фронтовиков, куда ни Пётр, ни Мишка не ходили. Около полуночи в горницу из прихожей вбежала Елена Степановна и тревожно принялась будить сыновей:
– Сыночки, вставайте, что-то сильно забили в набат, уж не случилось ли что. Боже мой, Боже мой, ну что это за жизнь настала! Где же теперь Митя-то. Вы ступайте, сыночки, уж поскорей, узнайте – не приехали ли эфти большаки собирать офицеров. Митю-то, Митю скорее найдите, да скажите ему, чтобы он спрятался!
Мишка и Пётр быстро вскочили, наскоро оделись. Звон большого колокола был такой явственный, как будто звонили во дворе. Братья шли на площадь, волновались, каждый думал о Дмитрии. Пётр теперь признавал своё заблуждение – кровно он обидел тогда старшего брата по своей слепоте…
Около школьного здания столько народа, что казалось: все вышли из домов на площадь. От набата ничего не слышно. У крыльца школы привязаны какие-то чужие, осёдланные, заиневевшие кони. Школьное помещение битком набито народом. Набат прекратился, приехавшие казаки молчали, свои фронтовики стали объяснять собравшимся:
– Станичники, большевики посягают на жизнь казаков, на их неприкосновенность! Расстреляли генерала Хлебникова ни за что, сбили и раскидали статую казака, а теперь уж и за нашими офицерами присылают, с которыми мы в окопах сидели, вшей кормили, нужду и горе пополам делили. И вот они офицеров требуют, чтобы их в городе расстрелять, а за офицерами, скажут, богатеньких давай, а потом георгиевских кавалеров, они тоже у них на горле сидят, а у нас больше половины казаков – кавалеры. Они так никогда не наедятся: овечку сожрут, потом коровку, потом лошадку, а потом и за старухой придут.
Вот верхние станицы идут брать Оренбург, выгонять большевиков и устанавливать там нашу, казачью власть. Отряд казаков верхних станиц движется по Орской дороге, он вступил уже в Нежинку, вот оттуда представители. Мы уже посылали туда своих, они приехали обратно: отряд большой, командует им войсковой старшина Лукин. Он уже выступил на Оренбург, нам надо скорее собираться и ехать туда же.
Толкотня, разговоры, крики, споры сливались в тревожный гул.
– Священника, батюшку, попа давайте, – кричали с разных парт стоящие на них старики, фронтовики, подростки, – молебну служить надо да и ехать!
Кто-то кричал: «Панафиду служить надо», не имея о том понятия.
– Может быть, наши братья в городе уже кровь льют, а мы будем здесь чухаться. Нас и так уже Дутов в большевики записал за то, что отказались на Оренбургский фронт идти, а теперь, если казаки займут город, и мы не поддержим, то нас казаки верхних станиц постреляют, как изменников, да и следует тогда стрелять.
За священником побежало человек двадцать. Мишка и Пётр увидели Дмитрия с офицером Крыльцовым, они о чём-то вполголоса беседовали. Веренцовы, как будто целую вечность не видели брата, кинулись к нему.
– Ну что здесь творится, куда собираются казаки? – задали братья в сотый раз слышанный и известный уже всем вопрос.
– Да вот видите, собираются ехать Оренбург брать, – ласково, по-братски, но без радости и жара ответил Дмитрий. Крыльцов стоял в стороне, курил и молчал. Видно было, что они только что разговаривали об этом.
Дмитрий объяснил братьям положение в Нежинке и решение благословенцев поддержать атакующих город. Подчеркнул, что, мол, наше дело – повиноваться и ехать, чтобы не оказаться изменниками и не понести кару, если атакующие овладеют Оренбургом. На вопрос братьев, можно ли ожидать положительного исхода всей этой затеи, Дмитрий, не стесняясь Крыльцова, ответил:
– Нет. Хотя этот проект исходит от самого атамана Дутова, но я и вот Алексей не разделяем его.
Тем временем с улицы на площадь табуном высыпала толпа. Тянули за руку и толкали в спину упирающегося, протирающего сонные глаза попа. Тянули его к школе, а он уговаривал толпу зайти в церковь, чтобы взять там необходимые принадлежности, без которых не полагается отправлять богослужение. Необыкновенное шествие время от времени останавливалось, происходила торговля: те – звали к школе, этот – к церкви.
– Время военное, а ты будешь там по церквам расхаживаться, а там тебя тысяча человек ждут. В башлыки, штоль, с этих пор записался, язви те в лёбры, не хочешь нам эти свои панафиды служить?
Несколько человек подбежали к атаману:
– Господин атаман! Да поп там упёрся на углу, как бык, и тянет нас в церкву. Тут надо скорее, а он какие-то там потрохили хочет собрать.
– Я ему вот, сукину сыну, дам потрохили. Насекайте ему под бока да тащите прямо суды, – распорядился атаман.
Через минуту толпа с попом подступила к школе. Несмотря на отсутствие епитрахили, тот на ходу загорланил: «Благословен Бог наш», и служба началась.
С хохотом Пётр и Мишка пошли домой собираться к отъезду, как будто они ехали куда-то в гости.
2.
Каждый казачий двор имел какое-то оружие. Все четыре года войны с фронта слали родным оружие противника: австрийские и германские винтовки, карабины, револьверы. А когда фронт рухнул, многие возвратившиеся принесли русские трёхлинейные винтовки. Как будто чувствовали, что оружие пригодится, да не знали, что оно принесёт горе и нужду, страдание, смерть. В довершение всего атаман Дутов, эвакуируя Оренбург, раздал населению оружие из городских оружейных складов. Веренцовы тоже были вооружены.
Елена Степановна приготовила сыновьям поесть, старалась побольше натолкать каждому в карман сдобнушек.
– Ладно, пусть пост, Бог простит. Это у меня от Масленицы осталось, – говорила она. – Ну, а как же вы там, аль воевать придётся? Ну, а Митя-то что говорит?
– Митя твой, наверное, трусит, – заметил Пётр, – я уж вижу, что ему хоть бы и не ехать, дак он был бы рад. Кто бы ему власть отвоевал, а он бы погоны прицепил да приехал в город. Ну, а может быть, он знает, что ни черта не выйдет, его ведь сам чёрт не поймёт.
Елене Степановне не нравились такие отношения между сыновьями. Какая-то кошка всё-таки пробежала меж ними, как говорила она. Но Пётр уже не был в раздоре с братом, а только заподозрил его в трусости, сам полностью поддерживая набег на Оренбург.
Мишка, как всегда, защищал Дмитрия:
– Ну уж ты не дури, –– сказал он Петру, – твой ум да моих два едва дотянут до Митина ума: что он сказал, так и будет.
– Да, оно, пожалуй, действительно так, – согласился Пётр.
Братья вышли на улицу, остановились, прислушались: из Оренбурга отчётливо доносилась дробь двух-трёх пулемётов и отдельные винтовочные выстрелы. Братья дуплетом выстрелили из двух винтовок вверх и пошли на площадь. Там уже тянулись подводы одна за другой. Каждые сани битком набиты казаками всех возрастов – от внуков до дедов. Со всех сторон кричали Веренцовым, звали к себе в сани. Братья отговаривались: «Да у нас там свой конь запряжён, туда идём к нему» – выбирали, с кем бы веселее ехать.
Дмитрия не было нигде. Как оказалось после, он далеко опередил их. Пётр и Мишка расселись на разные сани.
Дорогой Пётр несколько раз соскакивал со своих саней, разыскивал Мишку. Он всякий раз просил брата не отбиваться друг от друга в городе – на случай ранения или окружения. Вкусивший все прелести войны, Пётр знал, куда они едут и что их там ожидает.
А из Оренбурга всё чаще и явственнее доносилась стрельба. Встречались по дороге люди, не казаки, они ехали в свои сёла и хутора домой, мирно и равнодушно смотрели на эту войну русских с русскими. Роняли, что в Оренбург едва ли нужно ехать, город уже весь занят казаками. Но из перестрелки следовало, что овладение городом далеко не закончено.
Опасения и предостережения брата Мишка считал излишними. Никого, мол, там не окружат и не ранят, всё это чепуха, просто Петя струсил, и всё. Большевики, наверное, уже все убежали из города, а стреляют просто им вдогонку, думал он.
Положение же в Оренбурге было таково. Организованный по заданию Дутова набег планировал атаку города с трёх сторон – от станицы Нежинской, Сакмарской и Павловской. Все станицы и посёлки были уведомлены своевременно и секретно. Станице же Благословенной открывать намерение набега не рекомендовалось, она считалась большевистски настроенной, могла выдать секрет и сорвать дело. Поэтому её уведомили только тогда, когда отряд со стороны Нежинской уже выступил в направлении на город, то есть около двенадцати ночи. Посылая депешу в Благословенную, командующий правобережной группировкой войсковой старшина Лукин строго приказал проследить за поведением благословенцев на собрании: примут ли предложение о поддержке. Обо всём немедленно докладывать ему, Лукину.
Отряд из Нежинки выступил на Оренбург. Уже в дороге Лукин получил несколько донесений: «Благословенная согласна поддержать набег»; «Благословенная собирается к выступлению»; «В Благословенной на площади идёт молебен о даровании победы»; «Она выступила».
Точного времени набега Оренбург не знал, но всё ж был уведомлён об этом. Ночами в двух верстах за Форштадтом выставлялся усиленный караул на Нежинскую дорогу.
Отряд Лукина остановился верстах в пяти-семи от Форштадта – вперёд были посланы сани с огромной плетёной корзиной для подвозки мякины. В ней, покрытой брезентом и не привязанной к саням, сидели вооружённые казаки, сбоку около коня шёл казак, как бы везя в город продажу.
Каждого проезжающего караул останавливал и обыскивал. Сани с плетёнкой поравнялись с постовой землянкой. Из неё – в тридцати шагах от дороги – вышли шестеро, и, бряцая в темноте оружием, направились к саням.
– Что везёшь?
– Мякину![34]
Караул подошёл к саням вплотную, чтобы заглянуть в плетёнку. Через мгновенье он полёг весь – зарубленный, зарезанный, задушенный выскочившими казаками. В землянке уничтожили без выстрела остальных.
Подъехал отряд, торопливо двинулись к городу. В первых кварталах Форштадта беспощадно уничтожили штаб караулов для связи с центром города. Вот Форштадт уже позади – оставленные тем казаки шныряют по домам, ищут большевиков и сочувствующих.
Главные силы отряда проникли в город. Преодолев слабое сопротивление красноармейских частей в Форштадте, казаки ринулись в городской центр. Смерть хватала всех без разбора…
3.
Колонна из Благословенной въехала в город уже часов в десять утра. На площади, отделяющей Форштадт от города, пахло пороховым дымом, кровью – там лежали убитые и раненые, их было очень много. Некоторые из них бесчеловечно изрублены, другие просили о помощи. Кто они, понять нельзя: красные или белые, просто ли городские обыватели. Почти все в штатской одежде, все русские.
Мишка спрыгнул с саней, побежал смотреть убитых, первый раз в жизни он видел их. Колонна остановилась около здания Оренбургской станицы. Подъехал верхом на коне Лукин, поблагодарил за поддержку.
Без всякой команды казаки группами уходили в глубину города, откуда раздавались оглушительные выстрелы.
Пётр и Мишка держались вместе в группе человек из двадцати. Их подвели к зданию семинарии, приказали стрелять в окна с середины улицы. От выстрелов некоторые стёкла вылетали вовнутрь, в некоторых пуля сверлила дыру, как буравом. Из здания никто не отвечал, оно было пусто. Группа направилась дальше. Встретились незнакомые казаки, гнавшие пленных «большевиков». Мишка пристально смотрел на пленных, он увидел таких же, как и он сам, людей. Казак из Мишкиной группы вышел вперёд, подняв руку, остановил конвой, вывел за руку одного пленного, конвойным же сказал:
– Я этого типа знаю, он казак линейных станиц, я с ним служил вместе, он – ярый большевик. Этих ведите, а он будет рассчитываться здесь.
Конвой подал знак пленным следовать дальше, а обречённый на смерть большевик остался. Казак-белый деловито-равнодушно, без запальчивости воткнул штык ему в бок, как в чучело на учении. Штык вышел на четверть из другого бока.
В предсмертной агонии раненый судорожно схватился за ствол винтовки и тихо валился на бок. Убийца вырвал винтовку. Упавший вниз лицом раненый потянулся и повернулся с живота на бок. Из толпы вышел казак с большой рыжей бородой, добивая, выстрелил в лежащего. Тот тряхнулся всем телом и потянулся в последний раз. Группа направилась дальше, а казак-большевик остался лежать на снегу большой птицей, убитой так, мимоходом – пробуя ружьё или проверяя меткость.
В первый раз Мишка видел, как люди встречают смерть, которую, может быть, не ждали и полчаса назад, а днём раньше – тем более. Тогда человек собирался жить много лет, строил планы, хотел любить, быть любимым… Мишка ещё раз оглянулся на бездыханный труп. «Ах, так вот оно что, – думал он, – вот как убивают, вот как умирают. Оказывается, и то, и другое так просто и так легко, что напрасно так много ведут разговоров о жизни и о том, как лучше устроить её. А ведь подумать только: чик – и жизни нет. Или хвороба какая вязы человеку свернёт, или люди помогут, вот и собирайся долго жить, да ещё – хорошо жить. В общем, надо беречь жизнь другого, её защищать от смерти, это легче, чем уберечь свою, за неё не удержишься, когда люди захотят этого. А вот делается как-то наоборот: каждый старается уничтожить другого и гибнет сам»… Мишка шёл и упорно думал о том, что так потрясло его.
Зашли в какой-то двор казармы, там помещалась военная часть, теперь отступившая на дальнюю окраину города, откуда неслись звуки выстрелов. Казаки вбежали в казарму, рубили шашками подушки, матрасы, койки.
Мишка, дрожа от какого-то нетерпения, выбежал со двора казармы, побежал дальше, в глубину города, к выстрелам, брата Петра бросил. Нет, ему не нравилась такая война, чтобы встречать пленных и колоть их штыками или рубить брошенные матрасы. Он хотел увидеть войну настоящую, когда противники друг против друга с оружием в руках. Мишка побежал быстрей, чтобы увидеть войну и повоевать. Он оставил позади Николаевскую улицу, толчок. Вот уже Хлебная площадь. Кругом щёлкают выстрелы.
У нападающих казаков на рукавах – белые повязки. Мишка с белым лоскутом на рукаве машинально повернул назад, потом – налево за угол, побежал по Введенской улице к кафедральному собору. Стрельба трещала со всех сторон. Звуки выстрелов схватывались стенами и дворами огромных зданий, отражались ими. Направление звуков так искажалось, что скорее можно было принять их с противоположной стороны.
Мишка уже добежал до угла Введенской и Петропавловской улиц. В окне длинного и низкого углового дома, на карнизе которого вывеска с часами, показалась человеческая фигура, она в волнении махала Мишке рукой, подавала знаки, чтобы он уходил. Мишка остановился, нерешительно повернул и пошёл обратно. Он сделал уже с полста шагов, когда из-за дома, принадлежащего часовому мастеру, выбежали трое с винтовками и дали по Мишке залп. Горячая струя воздуха резанула Мишке по правой щеке и уху, он оглянулся и побежал. В полквартале оглянулся ещё раз: двое стояли на месте, а третий преследовал Мишку и был уже в двадцати шагах. Мишка остановился, злобно сверкнул глазами, вскинул к плечу винтовку. красногвардеец повернул обратно и пошёл – как видно, у него не было патронов. Мишка опустил винтовку и двинулся дальше.
Предупреждение из окна часовщика спасло Мишке жизнь. Его далеко заметили трое красногвардейцев и ждали за углом, чтобы залпом застрелить в упор. Не суждено было Мишке погибнуть на этот раз.
Через квартал ему встретилась женщина.
– Слушай-ка, молодой казачок, сорви белую повязку, здесь кругом красные, – оглядываясь, вкрадчиво сказала она, – сорви-ка поскорее, милок. – Мишка развязал белый платочек, положил в карман. Свернув налево, на Орскую улицу, Мишка увидел двух человек с белыми повязками, они входили в какой-то двор. Мишка нацепил повязку снова и завернул в тот же двор. В его глубине кроме вошедших двух было ещё три казака, они устанавливали к каменной стене шесть человек для расстрела.
Мишка подбежал к ним:
– Что вы делаете, сволочи? – не своим голосом закричал он. – Не смейте стрелять! Смотрите, кого стреляете. Это наши, форштадтские! – Хотя он на самом деле не знал их.
Казаки обалдели, попятились назад, некоторые наставили на него винтовки.
– А ты кто такой? Откуда? – злобно кричали они.
– Пошли скорее со мной, вон там настоящий бой идёт, туда надо, а эти никуда не денутся, если они виноваты, они сзади фронта. А вы, марш отсюда, чего разинули рты, стоите? – закричал он на людей у стены. Двое из них зарыдали от радости, по их лицам градом катились крупные слёзы.
Выйдя из ворот, казаки увидели, что случайно спасшиеся побежали в сторону Форштадта, на территорию, занятую казаками.
Мишка с гордостью ещё раз заметил казакам об их оплошности, хотя и сам не знал, как это совпало. Он повёл группу на Гостинодворскую улицу, откуда бежали люди, крича, что там идёт настоящий бой около дома Панкратова. Мишка бросился туда, казаки же отстали и вернулись, все они были не знакомы ему.
На Гостинодворской ничего нельзя было понять: люди толпились группами, стреляли, один выстрел вызывал три-четыре отзвука. Прежде чем стрелять в толпу, спрашивали друг у друга: «Вон это наши или они?» Люди перебегали улицу, падали, тащили раненых. Около угла дома Панкратова толпилось с десяток казаков, они заглядывали за угол и стреляли туда. Мишка тоже подбежал и заглянул за угол: на другом порядке переулка, у ворот какого-то дома, так же толпилось человек двенадцать, казаки стреляли по ним, а те – по казакам.
Мишкин станичник Бурлуцкий вышел вперёд, за угол, чтобы выстрелить, но винтовка выпала у него из рук, и он упал на спину. Пуля попала в бровь и вышла в затылок. Мишка забежал за угол, стал стрелять по толпе у ворот. Оттуда часто защёлкали выстрелы, пули впивались в кирпичную стену вокруг Мишки, летели осколки кирпича. Мишка звал в атаку на людей у ворот, но казаки не согласились. Он плюнул, надел винтовку на плечо, торопливо пошагал к Форштадту.
Выйдя на Форштадтскую площадь, он увидел и услышал движение и стрельбу слева от зелёного базара до монастырских кладбищ. Мишку потянуло туда, он спешил, как будто искал пропавшую красавицу-смерть, но её нигде не было, и у него болело сердце от неудовлетворённого желания. Cердце просило какого-то исцеления, может быть – пули…
Мишка увидел неприятельскую цепь, бегом наступающую по базарной площади, растянутую по Инженерной улице до мусульманских кладбищ и дальше, со стороны кузнечных рядов, наступающую обходным движением по монастырским кладбищам к Форштадту с севера.
4.
В начале этой ночи эшелоны красногвардейцев отправились из Оренбурга на фронт к Илецкой Защите – станицы, расположенные по линии Ташкентской железной дороги, восстали против Советской власти и рвались к этому городку, чтобы с его захватом прервать железнодорожное сообщение Оренбурга с Ташкентом.
Эшелоны уже подъезжали к Защите, когда в Оренбургский ревком поступило донесение о набеге и казачьей расправе в бывшем юнкерском училище. Была дана команда о немедленном возвращении эшелонов – в Оренбурге почти не осталось войск. Нёсшие комендантскую службу красноармейцы были поголовно уничтожены в училище.
Часам к десяти утра возвратившиеся части рассыпались по привокзальным улицам и повели наступление к центру города, где и вошли в соприкосновение с казаками, без всякой команды, кучками бегавшими из дома в дом, с улицы на улицу. Казаки считали, что город свободен от войск, и дело только за уничтожением отдельных сопротивляющихся.
Организованными в боевые единицы казаки не были, ехали обозом, на санях, как на базар, а когда разошлись по городу, то другого названья, как банда, им нельзя было дать. Несмотря на то что все офицеры были на стороне казаков, они не могли организовать планомерного удара по городу, почти пустому.
Встретившись с красноармейскими цепями, казаки толпой, табуном побежали назад, как будто не было необходимости драться. Отряды же со стороны Сакмарской и Павловской станиц так опоздали, что подступили к городу только часам к десяти дня, вместо двенадцати ночи, и топтались на месте, пока отряд Лукина был совсем вытеснен из города, – тогда они, как будто только этого и ждали, повернули восвояси, отказавшись атаковать город, хотя их удары по обоим флангам советских цепей имели бы решающее значение…
Когда Мишка увидел наступающие цепи и отстреливающихся казаков, он бросился к центру фронта против мясного базара. Навстречу разрозненными группами бежали отступающие, советские же цепи представляли правильные линии, за первой цепью следовала вторая. Откуда-то, со стороны вокзала, начало бить по Форштадту, на шрапнель, орудие. Мишке хотелось рассмотреть летевшие где-то в вышине над площадью снаряды, которые рвались сзади, над Форштадтом. Он впервые видел эту картину: белый огромный клубок дыма на месте разорвавшегося снаряда долго висел в воздухе, вниз воронкой летели во все стороны шрапнельные осколки.
От советской цепи щёлкали частые, беспорядочные выстрелы. Пули свистели, разрезая воздух. Сбоку Мишки упал казак на спину, – он был мёртв. Мишка узнал в убитом своего сельчанина Колесникова, стал стрелять с колена по цепи. Рядом упал ещё один казак, за ним второй, третий. Правее после отступающих казаков остался раненый, к нему подбежали из советской цепи и два раза в него выстрелили.
Правее Мишки цепь приблизилась на расстоянии не более тридцати шагов. Мишка торопливо стрелял, пока не услышал внятный голос красногвардейца из цепи: «Брось, молодяк, не стреляй!». Мишка на мгновение увидел красивое, добродушное лицо того, в кого он, может быть, несколько раз стрелял, хотел убить. Мишка оглянулся и побежал. Около него никого не было, казаки отбежали уже дальше, чем была неприятельская цепь, они останавливались и стреляли мимо Мишки в противника. Мишка больше не стрелял, как будто добродушное лицо «врага» запретило ему это делать, оно, это лицо, всё ещё стояло у него перед глазами. Мишка пересёк площадь. Сзади, уже не останавливаясь, бежали незнакомые казаки. Цепь неприятеля несколько приотстала. Мишка бежал уже Форштадтом, по Атаманской улице, над головой где-то в вышине с грохотом рвались снаряды, кое-где с форштадтских дворов щёлкали винтовочные выстрелы – видимо, в отмщение за ночной разбой.
Около здания аптеки одновременно с щёлкнувшим сзади выстрелом горячий воздух лизнул Мишку по левой щеке, он качнулся, пошёл шагом, не оглядываясь, рукой пощупал щёку – крови нет. Вспомнил о белой повязке на руке, сорвал её, положил в карман поддёвки. Вот дом сестры. С бледным лицом, в слезах сестра встретила Мишку на пороге.
– Ну как, Мишенька, отступают наши-то? А где же Митя и Петя, живы ли они?
Мишка настолько был расстроен, что не мог говорить. Как будто на него наставили дуло винтовки и сейчас грянет выстрел, хотя и жить-то ему уж как будто не хотелось, всё в жизни было потеряно. Он сдавленно ответил:
– С Петей мы как-то разошлись на Орской улице, а Митю мы видели только когда въехали в Форштадт, утром.
– Ну, давай покушай немножко, красавец ты наш. Очень-то не расстраивайся, покушаешь и прямо ступай скорее домой, – просила сестра и поставила на стол обед. Мишка глянул на еду, и его затошнило. Было уже два часа дня. Так сильно куда-то рвалось сердце…
– У меня вот есть крендели в кармане, мама ночью наклала, но я не хочу, – сказал Мишка. – Дождусь, что большевики захватят и вместе с тобой расстреляют.
Сестра тоже боялась этого, но брата почему-то не хотела отпускать. Сейчас, как никогда в жизни, ей хотелось смотреть и смотреть на него, чтобы насмотреться досыта, навсегда. Мишка стоял у порога с винтовкой на плече, прислонившись к косяку. Лицо у него было бледное, искажённое, печальное, жалкое. Он тоже старался насмотреться на сестру, но неведомая сила толкала его за дверь. От опасности ли толкала или на опасность, неизвестно. Неведомая до этого пронзительная любовь брата и сестры сказала обоим, что больше они не увидятся.
Пристальнее посмотрев ещё раз на сестру, шатаясь, как пьяный, Мишка вышел во двор. Тихая тёплая погода начавшейся весны теперь дышала холодом, даже снежные сугробы казались ему не белыми, а какими-то серыми, страшными. В квартале от них лопались выстрелы. Мишка вышел на улицу, за ним сестра. Рукой он подал знак, чтобы она вернулась во двор, в безопасное место, сестра повиновалась, он закричал вслед: «Прощай!» – и пошёл от ворот.
Всюду скакали казаки, все направлялись в Форштадт на Нежинскую и Благословенскую дороги. На санях какие-то казаки закричали: «Мишка, Мишка! Попадёшь в лапы, иди скорей!» – но не остановились, проскакали.
Беспорядочная череда отступающих казаков на санях, верховых, пеших, потянулась от Форштадта к Благословенной. А там женщины, старики и подростки со слезами встречали своих родных.
Увидевшие своих живыми и здоровыми радостно бежали за санями, расспрашивали об убитых и раненых.
5.
Обливаясь слезами, Елена Степановна стояла за станицей. Слёзы застилали ей глаза, не давали видеть дорогу. Вдали показалась подвода, в ней три человека. На вопрос: «Не видели Мишу?» – те ответили, что в последний раз видели в обед у дома Панкратова, где был убит Бурлуцкий, а потом не видели. Там он два раза выбегал за угол и стрелял в большевиков, а за этот угол нельзя было голову показать. Вот он какой дурной, этот самый ваш Мишка.
Подъехала и ещё одна подвода, казаки сказали, что они из Форштадта выехали последними, за ними вслед вышел какой-то пеший, но его догнали несколько всадников из большевистской кавалерии и зарубили прямо у них на глазах. Если Мишки всё ещё нет, то не иначе, как это он. Елена Степановна упала в снег лицом и говорила что-то бессвязное. Её подняли, положили на сани, но она быстро очнулась, соскочила с саней и с широко раскрытыми глазами и разведёнными руками, как молодая, побежала по дороге к Оренбургу. Ей теперь хотелось лишь одного: чтобы скорее добежать до убитого сына и чтобы скорее зарубили её рядом с ним.
Сколько она бежала по пустынной дороге, она не помнила и не чувствовала. Сколько раз падала, тоже не знала, у неё были разбиты колени, ладони, лицо. Наконец ей показалось: впереди много точек. Не иначе как кавалерия. Точки двигались навстречу, а потом явственно показались всадники. Она бежала и в исступлении кричала бессвязные слова: то просила или требовала отдать ей сына, то просила убить её, чтобы быть с сыном вместе. Между тем люди, как грозовая туча, двигались к ней. Она упала и потеряла сознание. А когда пришла в себя, то уже ехала на санях, её на руках держал Мишка. Казаков было четверо, они выехали из Форштадта другой дорогой и тоже видели, как кавалеристами был зарублен станичник Храмов Фёдор Михайлович.
Мишку ждали отец и Дмитрий. Пётр был уже около правления, где обсуждался вопрос об организации отряда для самоохраны и защиты, потому что обозлённые большевики могли явиться каждую минуту.
Спорили и судили: кто виноват в провале набега. Из Нежинки сообщили, что там задержали отступающего начальника отряда Лукина – его собираются везти в Оренбург и выдать властям, чтобы смягчить вину казаков.
Поговаривали уже и здесь о выдаче своих офицеров, но большинство доказывали, что офицеры ни при чём, они не только не настаивали на участии в набеге, а наоборот, были против этой затеи. Не надеясь на твёрдость этих доводов, офицеры всё же покинули станицу и уехали вверх по Уралу, к Орску. Там где-то был Дутов.
Часть вторая
ИСХОД
ГЛАВА ПЕРВАЯ
1.
Дикая расправа в Оренбурге в ночь на 22 марта 1918 года нависла грозовой тучей над казачеством края. Первый удар советского возмездья должна была принять станица Благословенная как подгородняя.
На оренбургскую дорогу смотрели как на источник смерти для всей станицы. Хотя на этой дороге стояли посты, все казаки, старые и молодые, спали одетыми. При малейшем стуке вздрагивали, выбегали на улицу. Жёны просиживали ночи около спящих мужей, слушали, не загудит ли колокольный набат, не застучат ли выстрелы, – чтобы успеть разбудить сонных.
Ожидая нападения, казаки сознавали, что наказывать их есть за что, и большевики это сделают. Но те не шли, не до этого было.
Неотступного внимания требовал Илецкий фронт, где казаки грозили парализовать Ташкентскую магистраль. На их разгром и уничтожение вышел отряд красногвардейцев под командованием Цвиллинга. Он оттеснил казаков от железной дороги на участок Илецкая Защита – Акбулак и преследовал до станицы Изобильной.
Видно было, как отступающие обозы белых потянулись из станицы. Отряд Цвиллинга решил занять Изобильную.
Пустые кварталы поразили могильной тишиной, как будто селенье вымерло. Отряд вступил в станицу. На церковной площади возник митинг.
Вдруг раздался выстрел бомбомёта. Из-за церковной ограды и со дворов ураганом вынеслись казаки – и со всех сторон пошла глухая, яростная расправа и быстро кончилась. Отряд Цвиллинга погиб весь вместе с начальником и штабом…
Расхождение между казаками и советской властью росло с каждым днём. Установить новую власть в станицах и посёлках было невозможно – организованные отряды казаков, подступавшие под самые стены Оренбурга, ежедневно заходили в сёла, истребляя всех причастных к сельским советам. Отряды в казачьих станицах, будто для охраны от большевиков, сами делали налёты на дорогу и на селения, принявшие чужую власть.
2.
Уже снег стал проваливаться на дорогах. На Урале лёд посинел, по нему сплошь натаяла вода. В зауральных станицах с нетерпением ждали разлива Урала и оврагов, отделяющих их от Оренбурга.
Если раньше жители Благословенной сетовали на реку, каждую весну преграждавшую путь в город с продажами, то теперь они были рады разливу реки, что хоть на время делало жизнь менее опасной, давая вздохнуть полной грудью, а там, мол, что Бог даст, авось всё забудется, утрясётся, и с большевиками помиримся.
Гора за Уралом на Форштадтской степи стала обнажаться, а гора за Бердянкой на киргизской стороне почернела. Урал бурлил жёлтой, как глина, водой. У берегов лёд высоко поднялся синими широкими лентами. Вода блестела, бурлила, лёд ещё стоял, потом со страшным скрежетом стал ломаться и двигаться вместе с водой.
Дорога в Оренбург совсем прервалась, облегчив душу, но из пригородных и находящихся около железной дороги станиц и посёлков приходили далеко не радостные вести. Рассказывали, что большевики сжигают дотла казачьи станицы, а жителей вырезают, что как только половодье кончится, овражки стекут, поля высохнут, красные высадятся из вагонов на Меновом разъезде, что в семи верстах к югу от Оренбурга, и нападут на станицу, о чём в городе открыто говорят.
Надвигалась посевная. В это время всегда весело готовились к посеву: ремонтировали бороны, плуги, сбруи, подсевали на решетах зерно. Табуны уже паслись в поле, вечером хозяева встречали их, а они с диким рёвом носились вокруг станицы и по улицам, пока не набегаются, и приходили домой все в грязи, тяжело дыша, как вволю наигравшиеся дети. Теперь же заготовленные с осени паханые земли уже сохли, местами их можно было боронить, чтобы не упустить время, но туда никто не ехал, даже не готовились к посеву. Скот в табун не выгоняли – боялись, что его захватят большевики. Закрытый дома, он жалобно кричал, разламывал рогами плетни и разваливал стенки сараев.
Когда же кто-нибудь, озираясь, ехал в поле боронить, его зло высмеивали: «Какой рабочий стал! Уж не богатеть ли вздумал? А не думает, что, может быть, завтра башлыки придут да вязы набок свернут, сукиному сыну. Уж дрых бы с бабой дома да с неё на городскую дорогу почаще поглядывал!». «Да ведь чо бояться ему обчива двора-то, его бабы на всю енперию хватит», – говорили другие. А тот, если и хотел что-то посеять, вечером гнал вскачь домой, может быть, в последний раз переночевать с женой, которую большевики вот-вот заставят отвести на общий двор.
Настороженность замечали даже у животных – они с тоской смотрели хозяевам в глаза, лизали руки, плечи, головы. Табуны, если робко и выгоняли, то на киргизскую сторону, подальше от Оренбурга.
Не могли понять киргизы возникшей смертельной борьбы между русскими. Они поддерживали борьбу казаков против советской власти потому, что большевиков не видели, не знали их идей. В киргизских аулах отсиживались контрреволюционно настроенные казаки и офицеры, сагитировавшие киргизов на свою сторону…
Как только просохла дорога, к Веренцовым приехал Кулумгарей. Он был печален, похудел. Как и другие киргизы, он вместе с казаками тяжело переживал это время. Он сказал Веренцовой:
– Балкуныс просил твоя на моя кибитка. Там будешь жить. Бачлык придёт, твоя далеко будет, а Мишка и Степан тада тоже придот. Так казал мой Балкуныс. Вот вся, собрайся!
Мишке Кулумгарей сказал, что Балкуныс плачет, просит его приехать в гости.
– Што ты, што ты, Кулумгарей, разве можно думать сейчас о гостях? Мы каждый день к смерти готовимся, а ты в гости зовёшь…
Кулумгарей засобирался и быстро распрощался, он боялся долго оставаться в станице.
Внезапно приехал Дмитрий и вечером куда-то ушёл. Жене сказал, что уходит на всю ночь.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1.
Уже более полугода не было связи Калуги с Оренбургом, письма не доходили. Изредка газеты сообщали о событиях под Оренбургом. Говорилось, что банды казаков сковали город непрочным кольцом, которое разрывается при атаках советских частей. Тем не менее связь города с внешним миром парализуется. Атаман Дутов отступил далеко внутрь территории войска и через своих агентов-офицеров руководит организацией белых банд.
Через знакомых москвичей Галя знала, что связь Москвы с Оренбургом, пусть нерегулярная, но есть. Она решила ехать в Москву, чтобы оттуда пробраться в Оренбург, а там до Миши рукой подать – с каждого высокого здания или колокольни видно не только станицу, но и дом Веренцовых на высоком берегу Урала. Галя решила любой ценой перетащить Михаила в Калугу от этой кровавой вакханалии с ежедневными жертвами с обеих сторон.
Родители не разделяли намерений дочери: время неспокойное, отношения их неясны, Михаил женат. Как часто бывает, решил случай. Отца Гали, Бориса Васильевича, арестовали как крупного собственника. Он сумел передать домой записку, в которой беспокоился за судьбу семьи и советовал дочери уехать из Калуги, неплохо, если и в Оренбург, под защиту твёрдой руки атамана Дутова с казаками.
Время отъезда Гали настало. Она наугад послала вперёд письмо – может быть, дойдёт. Она писала: «Мой милый, мой желанный, мой родной, сердце изныло по тебе. От тяжёлых вздохов уже болит грудь. Но не такое сейчас время, чтобы дождаться тебя. Я поеду к тебе, даже если бы сказали, что я погибну. Едва ли ты получишь это письмо, прежде чем я буду уже на месте, если судьба не сведёт в могилу, разлучая с тобой на этом свете. Умирая, буду называть твоё имя. Я не раскаиваюсь, что всё поставила на карту, если и придётся заплатить за это жизнью, то я её отдам, это не дорого…»
Через день залитая слезами Галя прижала к груди мать и крепко целовала в последний раз. В отошедшем поезде она уже не видела, как на вокзале мать отливали водой, отхаживали скипидаром и спиртом…
В Москве Галя попала на сибирский поезд, а в Самаре с огромным трудом удалось упросить старуху-доктора взять её с санитарным поездом, направляющимся на Оренбург. Старушка принялась было убеждать Галю не делать этого, не подвергать себя опасности поездки под Оренбург, где поезд могут захватить казаки, и тогда молодой Гале конец. Но Галя при словах о казаках воодушевилась, сказала, что она – казачка, и если поезд захватят казаки, то не только она сама спасётся, но и спасёт тех, с кем будет ехать. Старушка-доктор с испугом посмотрела на Галю и, попятившись, сказала: «Ну ладно, Бог с тобой, поедем, моя милая красавица».
Обрадованная Галя схватила чемодан и влетела в вагон, заставленный ящиками с медикаментами, около которых суетились доктор-старик и пожилая санитарка. Старушка провела Галю в вагон, представила коллегам как свою знакомую.
Удивлённый доктор попросил Галю пройти вперёд.
– Нина Николаевна, – обратился он к коллеге, – давно вам знакома эта молодая женщина?
– Да… Не так уж давно… Но я её хорошо знаю, – сказала та с запинкой, покраснев и отвернувшись.
– То-то же, а незнакомых брать с собой на территорию военных действий опасно вообще, за это могут жестоко наказать, – заметил доктор. – Вы откуда же и куда едете, если это не секрет? – спросил он Галю.
Та укладывала что-то в чемодане, без замешательства ответила:
– Я калужская, а замужем за оренбургским, еду к нему. Никак не могла дождаться спокойного времени. Была у родителей и никаких известий не имела о муже, а теперь решила при любых условиях, любой ценой добраться до Оренбурга. Я сейчас готова пойти на смерть, но ехать в Оренбург.
– А не казак ли ваш муж? – робко шёпотом спросил доктор.
– Да, мой муж казак, из молодых казаков, но его знают многие, так что, если встретятся нам казаки, я беру на себя сохранить вас от любых неприятностей, – улыбаясь, с воодушевлением говорила Галя.
Доктор не знал, что делать: избавиться от опасной спутницы, попросив её поскорее покинуть вагон, или радушно принять на случай защиты от этих степных пиратов-казаков, способных напасть на поезд в любую минуту и порубить головы пассажирам…
Видя колебания доктора, Нина Николаевна поспешила вмешаться, расхваливая Галю как давнюю знакомую. Все согласились взять попутчицу. В этот день Галя была как никогда весёлая, жизнерадостная.
Отправляющиеся к Оренбургу ждали неизбежного нападения на поезд и потому были в таком настроении, будто их посылали на казнь. Но в обществе Гали все вскоре повеселели, словно опасность миновала, и ехали они не к Оренбургу, а куда-то к Москве, домой.
Поезд был из пяти вагонов: санитарного с медикаментами и обслугой подвижного госпиталя, одного опломбированного, вагона-теплушки и открытой платформы с двадцатью-тридцатью красноармейцами – для охраны. В двух местах платформы что-то было покрыто брезентом, там виднелись пулемёты. Пятый, самый ценный вагон, гружённый снарядами и патронами, замыкал состав – стены в нём были обиты ватой.
Поезд шёл всю ночь. К утру он достиг станции Переволоцк, где начинался район действия белоказачьих отрядов.
2.
Галя не спала всю ночь, сидела у раскрытого окна, смотрела, как мелькают придорожные огни. Она с нетерпением ждала предстоящего дня, казалось, что в этот день она безусловно перейдёт через какую-то грань, отделяющую одну жизнь от другой, и после полудевичьей жизни сделается семейной, замужней дамой, женой такого мужа, какого нет ни у одной женщины на свете. А главное, она должна увезти Мишу из этих кровавых мест куда-нибудь подальше, на простор мирной жизни. Она не отходила от окна, напряжённо смотрела в даль уже начавшихся казачьих степей.
Когда два года назад Галя ехала из Оренбурга в Калугу, на каждой станции можно было видеть казаков в фуражках с голубым околышем, а сейчас не видно ни одного, даже малолетних казачат. Что это за время настало? Какая грань легла между казаками? Почему их отторгнули, какие интересы скрестились у казаков с неказаками и кому это нужно? Почему их все так бранят в центральных губерниях, называют головорезами, контрреволюционерами? Нет, они не знают казаков, вот поэтому так говорят, а я их знаю значительно больше других… Так рассуждала Галя, подъезжая к станции Общий Сырт. Поезд остановился. Нина Николаевна вышла из вагона и вернулась.
– Батюшки, голубчики мои, что было на станции сегодня ночью! Казаки делали налёт на станцию, до сих пор кровь не убрана, а убитых только что прибрали. Какая бесчеловечность, Боже мой! Сейчас там рассказывают о жестокостях, какие учинили здесь казаки.
Все испуганно насторожились. Каждый думал об Оренбурге, окружённом гнёздами казачьих отрядов. Одна Галя была спокойна, ей казалось, что при встрече с любым казаком тот сразу узнает в ней жену Михаила Веренцова, которого, по её мнению, знают все. И если ей сегодня не удастся встретиться с Михаилом, то с сестрой его она увидится обязательно. В ней всё длилось возбуждение, сердце, казалось, пело…
Поезд шёл, колёса монотонно выстукивали по стыкам рельсов, рядом с Галей сидела Нина Николаевна, она всматривалась в Галю, как будто за сутки не вполне рассмотрела её.
– Галочка, вы сегодня какая-то особенная, странная, у вас в глазах непонятная глубина. Как будто вы сегодня переходите в другой мир и радуетесь этому. Мне понятно, что вам хочется поскорее оставить нас и всю окружающую обстановку, но мне сейчас очень жаль как-то расставаться с вами, как будто я жила с вами несколько лет, так привыкла к вам. Мне кажется, мы никогда не увидимся, а я так не хочу разлуки…
Галя смотрела в одну точку, в глазах её были слёзы.
– Нина Николаевна, я сегодня, возможно, с мужем не увижусь, может, удастся встретиться с его сестрой, которая живёт в Оренбурге, не откажите пойти со мной к ней. Мы будем очень радушно приняты, – говорила Галя и непрерывно смотрела в окно, как будто её оттуда кто вызывал. Наконец она изменила тон и задумчиво сказала:
– Нина Николаевна, если со мной что случится, не забудьте мой адрес, чтобы сообщить родителям. Я что-то сегодня чувствую такое состояние, какого не помню. Мне кажется, такое настроение бывает лишь раз в жизни, после которого уж больше не будет ничего.
Она замолчала и прижалась лбом к окну.
– Бог с вами, что вы, милая моя, такая цветущая да красавица, вы должны только начинать жить. Разве можно такие мысли допускать? Я старая, да и то мне жизнь нужна – посмотрите, какая природа кругом: зелень, цветы, всюду птицы поют, разве можно говорить о смерти? Что вы, Галочка! Вот встретите мужа, вам только радоваться теперь…
– Нина Николаевна, милая, время сейчас такое: жив человек, порхает, как птичка, а через мгновение его уже нет.
Галя прервала разговор – где-то грохнуло орудие. Покачиваясь, женщины сидели друг против друга. Доктор, прислонившись к стенке вагона, сидел на полу.
Вдруг затрещали винтовочные выстрелы, поезд остановился.
Путь впереди был разобран. Из-за пригорка показалась казачья цепь. Скачущие стреляли на скаку. Все легли на пол. Галя напряжённо смотрела в окно, стараясь разглядеть нападавших, а среди них – Веренцова. Спутники упрашивали её опуститься на пол, но она не могла этого сделать. Казачья цепь была уже недалеко, отчётливо виднелись голубые околыши на фуражках, по ним хлестали с платформы из винтовок, пулемёты пока молчали.
От волнения и напряжённого взгляда слёзы застилали у Гали глаза, она быстро их вытирала и смотрела. Вдруг ей показалось, что, направляясь к вагону, скачет Мишка. С криком: «Миша! Миша!» – Галя выбежала в тамбур, открыла входную дверь, кричала: «Миша! Миша!» – махала рукой казаку, похожему на Веренцова. Её умоляли вернуться в вагон, но она не слышала. Затащить её в вагон силой никто не решился, было опасно. Галя стояла на пороге открытой двери в белом с цветами платье, как майская бабочка, и всё звала и звала.
С платформы несколько раз кричали, подавали знак рукой, чтобы она зашла в вагон, но она не могла оторваться от места, на котором стояла, непонятная сила пригвоздила её к полу. С платформы послышались угрозы и ругань. Вдруг у Гали зазвенело в ушах и голове, глаза затянуло красной пеленой, она попятилась и потеряла сознание, тихо падала на пол тамбура. С платформы по казачьей цепи застрочили два пулемёта. Казаки быстро развернулись и через несколько минут скрылись за пригорком. Стрельба прекратилась.
Нина Николаевна выбежала в тамбур. В большой луже крови лежала Галя. Она была мертва. Пуля вошла в правый висок и вышла выше левого уха.
Нина Николаевна упала па пол вагона и рыдала до Оренбурга, куда поезд пришёл уже вечером…
Когда гроб, соскользнув с верёвки, упал на дно могилы монастырского кладбища, Михаил Веренцов был в трёх верстах от Оренбурга…
Сбылись Галины предчувствия, её обещания. «До смерти буду стремиться к тебе», – говорила она Мишке. «Схорони меня на монастырских кладбищах…» – просила как бы шутя. «Буду умирать – буду называть твоё имя», – писала ему…
3.
Своими налётами на железную дорогу казаки ускорили решение командования Оренбургского гарнизона ликвидировать казачьи отряды по отдельности. Отряды разбивали, а непокорные станицы сжигали. Подходила очередь благословенскому отряду по-настоящему столкнуться с советскими частями.
В штабе отряда с вечера знали, что под утро готовится атака Благословенной со стороны города. Отряд стоял на левом берегу Урала, в трёх верстах от станицы. Застава донесла, что на рассвете красные силой в полтысячи кавалеристов выступили из Карачей и Кузнечного посёлка и идут цепью по направлению к Благословенной, длина цепи вёрст семь.
Быстро подали команду «по коням», «садись», и отряд в сто тридцать четыре всадника карьером выскочил из леса и пошёл к Оренбургу, рассыпаясь в цепь на ходу.
Красноармейская часть уже была видна, она шла фронтом по Меновнинскому выгону. Коней красноармейцы вели в поводу. На расстоянии версты они дали залп по казакам, те остановились, спрыгнули с коней, стали отходить, ведя за собой коней.
Казаки готовились к атаке. Было приказано отходить до низа оврага, что в двух верстах от станицы. По советской цепи передавалась какая-то команда. Видимо, и там готовились атаковать. Наконец казачья цепь спустилась в намеченный овраг.
Сейчас должно случится то, чего Мишка не испытывал никогда в жизни. Сейчас он вместе с другими бросится на противника в открытом поле, в открытом бою. Жертву ли свою, своего ли убийцу он увидит в лицо, искажённое от страха или с надменной усмешкой при встрече с таким неопытным противником, как Мишка. Сегодня он впервые сталкивается с врагом по-настоящему, получает боевое крещение. Кому он сегодня противопоставит свою силу, лихость, ловкость и жизнь? Его Мишка увидит в тот момент, когда поединок станет неизбежным. Противник будет не иначе как из служивших людей, из фронтовиков, видавших виды, может быть, даже казак, перешедший к красным. Стрельба со стороны красных довольно меткая, как видно, из умелых рук. У него мурашки побежали по телу. «Свернут они мне вязы, их мать. Ей-богу, свернут», – подумал он.
Цепь противника была хорошо построена, ровной линией и точным интервалом. Отчётливо было слышно, как там происходила какая-то перекличка по цепи, вероятно, передавалась команда или напутствие. После выстрела со стороны противника, звук которого походил на хлыст большого кнута, сейчас же летела пуля над головой или резала землю, не долетая, и со страшным жужжанием какого-то смертоносного шмеля перелетала рикошетом через голову… Конь Мишки строго поднимал уши, вертел головой, оглядывался и теребил зубами за рукав рубашки, как бы просил поскорее уехать домой, в станицу, видную, как на ладони.
Отступая, люди спугивали тьму комаров, мошек, слепней – они вились над животными и людьми, жаля и кусая. Не обращая внимания на жужжание пуль, жаворонки не умолкали, иногда вылетали из-под самых ног и тут же скрывались в ковыле. Птицы пели и порхали над головами. Майская трава была в самом расцвете. Ковыль-космач, резун-острец и пырей, как море, волновались под ярким солнцем на небольшом ветерке.
Сердце сжималось в крепкий, жгучий комок, левая сторона груди болела, а лёгкие не могли набрать воздуха, их как будто сдавило клещами – так тяжело было на душе. Радость степной жизни вокруг, порханье и щебетанье птиц ещё больше щемили сердце и повергали в грусть. Не чувствовалось зноя, как будто не грело солнце, тело била дрожь от неведомого холода. В дни радостные, счастливые тяжелее ощущается приближение смерти, чем в дни скорбные, в дни несчастья и обиды.
Господи, как хорошо было тогда, в день объезда поля с Галей! Или это был сон? Тогда была осень – ни одного зелёного кустика, ни одной птицы, но настроение бурлило, прорывалось наружу: сухая ветка, колючка, полынь – свежо пахли и вызывали радость. Оренбург, хорошо видный с горы, рождал такое чувство, как будто город видел их, звал к себе и предлагал им радость. Хотелось скакать, смеяться, они были самыми счастливыми в мире. А сейчас, Боже мой, что случилось? Что за поле? Что за трава? Что за весна? Даже цветы не пахнут, жаворонки вызывают только слёзы. Даже диск солнца совершенно мутный, на него можно смотреть затуманенными тёмной печалью глазами, не моргая. Бывало, едешь к станице, всё кажется: слишком медленно идёт конь, хочется спрыгнуть с телеги и бежать скорее вперёд, а сейчас… вот станица недалеко, а идти туда не хочется, как будто там нет отца и матери, нет родных, а есть только враги. Сейчас хочется впрыгнуть на коня и во весь дух скакать мимо дома, прямо на киргизскую сторону, дальше, чтобы не возвращаться сюда никогда…
На дне рокового оврага раздалась команда: «Садись!», а вслед за этой командой закричали по цепи: «Шашки вон, готовсь к атаке!»
Красноармейскую цепь не видно, её скрывает огромный бугор, отделяющий овраг от равнины. В последний раз больно сжало сердце, а потом, как будто клещи разжались, и на душе стало весело и легко, как скорбящему перед смертью делается легче. На мгновение Мишка вспомнил Галю, вздохнул и подумал: «Э-э-э, убьют, так убьют, всё равно едва ли удастся с ней увидеться из-за этих чертей большевиков». Он крепко сжал зубы, в нём полыхнула ненависть к красным.
В центре казачьей цепи вперёд выскочил начальник отряда Скрипников, он вертел над головой обнажённым клинком и что-то пронзительно кричал. Во многих местах из-за бугра, перед самым носом показалась цепь красных. Кавалеристы беспечно наступали, полагая, что казаки будут отходить до станицы, но когда поднялись на бугор перед оврагом, увидели, что те сейчас выскочат в атаку. Командование красных только что получило донесение о том, что с юга из глубины степей карьером приближаются две большие группы казаков, грозящие ударить во фланг и тыл. Спешно было приказано отходить. Казаки с криками «ура» рванулись вперёд, выскочили из оврага и грянули на неприятеля. Конь Мишки взвился на дыбы, впрыгнул на метровый яр и понёсся вперёд. Мишка услышал сзади голос казака-фронтовика Колесникова:
– Мишка, обожди, сейчас пулемёт тебя срежет.
Справа за бугром остановилась впряжённая в четвёрку лошадей двуколка с пулемётом «Максим» и тремя пулемётчиками, они торопливо налаживали пулемётную лепту.
Мишка остановился, заметил отсутствие Митьки, с которым договорился всегда быть вместе. Теперь он рассчитывал на Колесникова, но и тот поскакал куда-то в сторону по распоряжению взводного. Митька был в центре отряда около начальника, вызванный туда перед атакой.
Мишка стегнул коня и поскакал к пулемётной двуколке. Рядом с ним скакали люди, смотреть на них было некогда. Внезапно засыпала пулемётная дробь. От резкой заглушающей стрельбы стало больно в ушах. Пули просвистели выше головы, потом в нескольких шагах спереди коней взрыли землю, подняли клубы пыли вместе с клочками срезанной травы, опять просвистели над головами, потом – недолёт. Так менялось несколько раз. Счастливы атакующие, попавшие на плохого, растерявшегося пулемётчика. Наконец капризный «Максим» выкинул какой-то фокус, дал задержку, которой пулемётчик устранить не мог. Все трое спрыгнули с двуколки и побежали за своими.
В цепи красных, растянутой на семь вёрст, не могли быстро передать команды к отходу. В начале схватки в цепи почти не слышали команд младших командиров – усугубив тяжёлое положение, рядовых предоставили самим себе, хотя они храбро сражались в одиночку.
От командования красных нужно было одно: строжайшим запретом удержать кавалерию на земле, не разрешать садиться на коней и, подпустив врага на сотню шагов, встретить казачью атаку залпом. Едва ли кто из нападавших остался бы не поражённым.
Когда казаки пошли в атаку, кавалеристы стали вскакивать на коней, заворачивая назад, некоторым мешали метавшиеся в испуге кони, когда казаки врезались в цепь, у других кони вырвались во время посадки, и их пешие хозяева бежали за ними. Казаки окружили пеших кавалеристов. Всё смешалось, неслось сплошным круговоротом к городу.
Щёголев на своём коне-аварчике, сером в яблоках – тот самый Щёголев, взявший приз за уколы пикой на состязании восьми казачьих полков в Гельсингфорсе, – носился вдоль фронта, ястребом налетал на жертвы, нанося неумолимые, губительные удары клинком. Он знал все маневры в конной атаке. Не одна немецкая каска ржавела на полях Латвии на участке Рига–Двинск, где оперировал восьмой полк оренбургских казаков в 1917 году, переброшенный туда из Финляндии, – хозяева этих касок встретились со Щёголевым…
Отбиваясь, красноармейцы проявляли завидную выучку: выбитые из седла, они хватали винтовку, стреляя в упор, бежали дальше.
Вот семнадцатилетний неопытный казак Митя, подняв на всю руку клинок, наскакивает на пешего, вот сейчас удар упадёт на голову врага, но тот круто поворачивается, стреляет молодому казаку в живот. Пуля вылетает высоко в спине, вырывая полспины гимнастёрки. Митя, умирая, сваливается с коня…
Крики «ура», стоны, ругань – всё смешалось в общий гам. Скачут кони без седоков, вот испугавшийся конь, наступая задними ногами, тащит окровавленный труп своего хозяина, завязшего в стремени…
Мишка проскочил пулемётную двуколку. Впереди один за другим – с винтовкой в руке – бежали три пулемётчика. Мишка направился к ним, не снимая из-за плеча винтовку, на мгновение взглянув на того, кто скачет рядом, и увидел своего соседа. Фёдор был намного старше Мишки, не служил по семейным обстоятельствам, был весельчак и балагур, но не обстрелянный. Сейчас, в первом для них бою, Фёдор и Мишка наскакали па красного пулемётчика, тот перекружился, выстрелил и опять побежал, промазав. Казаки налетели опять, пулемётчик бросил гранату под коня Фёдора, тот спрыгнул с падающего коня. Спрыгнул и Мишка. Фёдор не успел опустить клинок на голову пулемётчика – упал к его ногам, сражённый выстрелом сунутой почти в самую грудь винтовки. Мишка взмахнул клинком, держа в левой руке повод лошади, – красноармеец скользнул стволом винтовки по его груди и выстрелил. Пуля прошла между грудью и рукой и пронзила Мишкиного коня, который тут же упал и сделался мокрый, как искупанный, дрожа всем телом. Клинком Мишка не достал пулемётчика, но тот свалился на землю, широко развёл руки, принимая в объятия смерть. Клинок проскакавшего мимо казака глубоко въелся в левую сторону его лба, лицо залило кровью и мозгом. У Мишки сердце сжалось от боли, когда он увидел корчившегося пулемётчика.
Всё же какая-то обязанность, какой-то инстинкт тянули его вперёд и вперёд вслед за товарищами. Он бросил клинок в ножны, побежал к брошенному неприятелем коню. Тот в нескольких шагах щипал траву и торопливо с хрустом ел. Подбегая к коню, Мишка перешёл на шаг и стал подзывать незнакомое животное. Конь сначала недоверчиво, а потом дружелюбно взглянул на Мишку и позволил взять за повод своей уздечки. Мишка впрыгнул в седло и во весь карьер поскакал вслед мешавшимся и скакавшим по направлению к городу своим и красным. Он на скаку сорвал с себя винтовку, взял её посередине и попугивал ею своего коня.
Впервые в жизни ему пришлось сидеть в кавалерийском, а не казачьем седле. Он скакал с болтавшимися ногами, без помощи стремян, неимоверно прыгал взад и вперёд по седлу, которое казалось и длинным, и широким без точки опоры – передней луки. Он рисковал каждый миг свалиться с коня.
Он скоро догнал свою цепь, которая уже смешалась с цепью красных и много потеряла из своего состава, стала отставать: пронёсся слух, что впереди залегла пехота красных и ожидает казаков. Мишка проскакал через казачью цепь, устремился за двумя приотставшими красноармейцами. Крика, пронёсшегося по казачьей цепи «стой», «назад», он не слышал, проскочил далеко вперёд, за что чуть не поплатился головой: к нему повернули два кавалериста, но Мишку их поведение встревожило, он круто повернул коня и в несколько секунд оказался ближе к своим, чем к противнику.
Когда из-за близости города преследование прекратилось, с левого казачьего фланга из глубины степных оврагов и возвышенностей во весь карьер вынеслись казачьи отряды Бобряшова и Пущаева Красноярской и Перовской станиц. Они спешили помочь благословенцам ударом в правый фланг красных, и, если бы те не отступили из опасной зоны, то были бы прижаты к Уралу и уничтожены. «Гости» повели свои отряды домой.
Благословенский отряд въезжал в станицу под плач об убитых и тяжело раненных. Хоронили вечером на площади около церковной ограды. Красноармейцев, собранных в степи, зарыли далеко от станицы, вниз по левому берегу Урала.
Каждый знал, что это наступление красных – только подготовка к настоящему наступлению. Каждый стоял на краю могилы, шаг – и похоронят его самого…
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1.
Оставив Оренбург, Красная армия заняла позиции на участках Актюбинск–Орск. Эти города осаждались белыми настолько слабо, что коммуникации между Орском и Актюбинском почти не нарушались, несмотря на то что Орск был окружён белыми, кроме узкой полосы вдоль дороги в Актюбинск. Эта дорога служила единственным сообщением с Актюбинском, по ней Орский гарнизон получал подкрепление и снабжение.
Вступившие в брошенный без боя Оренбург белые беспечно почили на «лаврах победы». Командование уверилось в том, что большевики побеждены и ушли куда глаза глядят, а если откуда ещё и не ушли, их прогонит кто-нибудь, вроде чехов или союзников. Теперь на фронте едва ли есть что делать. Оттуда, где большевики остановились, пусть прогоняют их местные жители, если не хотят Советской власти, наше дело – сторона. Рядовому составу война надоела ещё на Германском фронте. Казаки кричали: «На кой чёрт нам нужен какой-то Актюбинск? Он не казачий город. Вон взять Орск – и по домам, а Ахтюбу пусть мужики защищают!»
Разъяснять цели и необходимость борьбы с большевиками командование белых никогда не думало, но едва ли оно знало, с чего начать. Казаки нередко без стеснения бросали в лицо начальству: «Зачем воевать? Будем нейтральны, давайте сделаем мир без анекциев и кандрабуциев, и уйдём домой. Уж надоело воевать, што, в самом деле, когда же с женой-то спать?»
Идеологически тупое и политически слепое офицерство само, в большинстве своём, разделяло эту точку зрения не только в разговоре с рядовыми, но и в душе.
Кавалерийская часть Оренбургского советского гарнизона под командованием бывшего казачьего офицера Николая Каширина при эвакуации из Оренбурга была направлена в глубокий рейд через Башкирию: Сакмарская станица – Дедово-Исаево – Красная Мечеть – Стерлитамак – Уфа – правый берег Волги – на соединение с Красной Армией.
Для преследования этой колонны из занятого белыми Оренбурга вышли казачьи отряды Богданова, Скрипникова, Шеина и другие. Но преследование было так пассивно, что Каширин прошёл всю Башкирию и Самарскую губернию до Волги и перешёл через Волгу, не встретив серьёзного сопротивления, кроме незначительных стычек.
Отряд Скрипникова повернул назад от Красной Мечети, отойдя от Оренбурга всего несколько вёрст.
– Нечего нам гнаться за ним, нечего ловить, поймают и без нас, – махнув рукой, сказали казаки.
Вскоре вернулся и Богданов, устремившись по ложной дороге и потерявший надежду настигнуть противника.
Шеин активнее преследовал Каширина, но, имея незначительные силы, решительного боя дать не мог.
2.
27 июля отряд, в котором был Мишка, погрузили в товарные вагоны и отправили на Орский фронт. Родные никого провожать не приехали, не знали об этой внезапной отправке. Расквартированный в Форштадте отряд сняли с квартир ночью.
Уже через сутки второй степной партизанский отряд подъезжал к позиции около резервной части Первого Левобережного полка. Впереди, в версте – горный хребет с позицией белых; дальше на полторы версты – второй хребет, повыше, его оседлал Орский гарнизон. В горных утёсах у обоих противников батареи. На юго-запад, изгибаясь по равнине, бежит дорога на станицу Хабарную. Прижавшаяся боком к Губерлинским горам, она видна отсюда. Мишке захотелось побывать в ней, рассмотреть вблизи…
На позиции беспрерывно хлопали ружейные и пулемётные выстрелы. Звуки их в горах раздавались так, будто кровельщики крыли огромную крышу жестью и били по ней большими железными молотками.
В три часа дня цепь белых была снята с позиции. Отряд отвели в тыл версты на три, чтобы отдохнуть и закусить. На весь фронт в две версты оставили три поста по три человека.
На один из постов, правофланговый, ничем не защищённый, самый опасный назначили Мишку с двумя казаками.
Тройка поста оставила одного казака коноводом, Мишка с другим заняли наблюдательный пост на оставленной позиции правого фланга. Справа местность понижалась, уходила и расплывалась в отдельные бугры, потом в равнину до горизонта, сзади под горой ничего не было видно, дальше где-то лежала дорога на Актюбинск.
От напряжения или бессонной ночи сердце у Мишки сжимало в тиски, казалось, оно не в состоянии расширяться, и кровь будто бы застыла.
– Наверное, красные спать легли, ни одного выстрела по постам не дали, – вяло сказал он другу.
Тот подавленно промолчал.
Но красные не спали, готовясь атаковать посты. Командир эскадрона вызвал к себе Подольского.
– Товарищ Подольский, – сказал он, – поручаю вам боевую задачу: возьмите человек двадцать, сделайте глубокий обход слева и атакуйте посты белых с правого их фланга. Белые ушли в тыл, позицию очистили, оставили лишь три поста по два человека пешими и по одному, очевидно, коноводу. Посты эти нужно снять и овладеть их батареей и пулемётами, что находятся около Урала. Для атаки батарей я потом дам помощь с фронта.
– Есть, товарищ командир! – сказал Подольский.
Отряд кавалерийской части в двадцать три человека галопом двинулся по Актюбинской дороге в обход позиции белых. Невдалеке они встретили разведку белых в шесть человек Левобережного полка, обстреляли её и отбросили далеко назад, направляясь галопом на посты отряда.
– Сергей! – поднял голову и обратился к другу Мишка, – какая может быть там стрельба, чуть не сзади нас справа?
Сергей потянулся на траве, махнул рукой:
– Да теперь везде стреляют. И в собак стреляют, и в воробьёв, подь они к чёрту, – успокаивая сам себя, возразил тот, – Ты вот давай расскажи какую-нибудь чертовщину, а то скучно, да и спать хочется. Большевики спят, ни одного не видно, все попрятались.
– Как бы нам здесь не рассказали какую-нибудь сказку, что все места зачешутся, – задумчиво-предостерегающе сказал Мишка…
Вдруг чуть не сзади и почти рядом хлопнул выстрел, за ним второй, третий. Атакующая группа конных красноармейцев во весь карьер неслась на них с фланга. Заметив их коновода в сотне шагов под горой, на скаку стреляла в него. Рассыпавшаяся лавой группа одним крылом уже подступала к коноводу, вторым – к посту. Когда Мишка и Сергей вскочили на ноги, то красноармейцы, увидев казаков, завернули своё левое крыло от коновода и устремились в сторону поста, кроме троих левофланговых, преследующих коновода, поскакавшего в тыл.
Вскочивший на ноги Мишка забросил на плечо ремень винтовки, надеясь на подачу коней коноводом, рванулся было в его сторону, за ним несколько прыжков сделал с винтовкой наперевес Сергей. Тут же они увидели поскакавшего в тыл коновода, надежды больше не было. Цепь противника уже была в двухстах шагов, красноармейцы кричали: «Сдавайтесь! Бросайте винтовки!» – дальше следовала ругань по адресу казаков.
Мишка сорвал с плеча винтовку, фуражка слетела с головы, покатилась по траве.
– Стой, Сергей! – закричал он не своим голосом и щёлкнул затвором на боевой взвод.
Сергей остановился, встали в ряд, ждали противника, – чтобы бить в упор. Крики и ругательства со стороны атакующих продолжались. Лавина конных была уже в пятидесяти, тридцати шагах. Наконец, противник в двадцати шагах. Грянули два выстрела, один всадник упал, второй, сбоченясь на седле, описал большой круг, в сторону спрыгнул с коня, присел на землю, держал коня за повод. Остальные, не обращая внимания, охватывали казаков. После выстрелов Сергей быстро пустился под гору, направляясь в тыл, Мишка же побежал по горному хребту ко второму посту.
Красноармеец, вылетевший вперёд и догнавший Мишку первым, махнул клинком, но головы не достал, проскакал мимо, делая вольт, чтобы налететь снова. Мишка перекружился несколько раз с винтовкой, красноармейцы взяли его в кольцо. Кони их вставали на дыбы, не подходили к пешему с винтовкой, клинком разить нельзя – нападающие толпились, мешая друг другу. Никто из них не сообразил спрыгнуть с коня и выстрелить в Мишку в упор. Вертясь волчком, он был трудноуязвим для выстрелов с коней, он наставлял ствол в одного, в другого, в третьего, а стрелял на выбор, вырывался из расступившегося круга, бежал несколько шагов, пока шёлкнет затвором, заряжая следующий патрон, и опять останавливался, кружился с винтовкой, охваченный кольцом всадников.
Мишка уже чувствовал, что смерть дохнула ему в лицо, она где-то близко, рядом, пытается захватить его в свои объятья, но, вертясь волчком, он не даётся.
Крутившиеся вокруг него красноармейцы стреляли, опасаясь убить своего рикошетом пули: Мишка пользовался случаем, стрелял и снова бежал. Всадник, догнавший Мишку первым, решил, что клинком действовать бесполезно, бросил клинок в ножны и снял винтовку, он уже несколько раз выстрелил, но с коня было трудно попасть в метавшегося из стороны в сторону человека. Мишка ещё раз вырвался из круга, тот же всадник заскакал ему наперёд, преградил дорогу и наставил винтовку в Мишкину грудь, но не успел – Мишка выстрелил первым. Красноармейца будто ветром сдуло с коня.
Второй, заскакавший спереди, был старший группы. Мишка успел щёлкнуть затвором и скинул винтовку на уровень живота целившегося в него начальника атакующей группы Подольского.
Мишка нажал на спусковой крючок, курок щёлкнул, но выстрела не последовало. Оказалось, что Мишка щёлкнул затвором в шестой раз. Через мгновение после Мишкиной осечки Подольский нажал на спуск, грянул выстрел, резко, до щемящей боли кольнуло Мишку в спину, ему показалось, что его кольнуло в спину штыком или концом шашки, но это вошедшая у центра груди пуля, пробив лёгкое, вышла сзади и вырвала кусок тела в два квадратных вершка.
Мишка захрипел, в груди у него забулькало, заклокотало, когда он потянул в себя воздух, а когда выдохнул, горячая струя крови хлынула изо рта и носа. Он ещё несколько мгновений продолжал кружиться, плевал кровь на обе стороны. Он уже понял, что в винтовке нет больше патрона, заряжать некогда. Он злился, скрипел зубами, в бессильной злобе плевал кровь, он был весь окровавлен, как бык на бойне, которому резаки забыли нанести смертельный удар в лен – беспомощную впадину внизу затылка, а лишь перехватили горло. Теперь жертва в борьбе за жизнь то нападёт на убийцу, то пытается укрыться от него.
Мишка остался один и уже не прорывался из круга, а круг всадников расступился и отскочил в сторону на несколько саженей. Мишка заключил, что откуда-то ломятся казаки. Он стоял, шатаясь, смотрел в сторону своего тыла, откуда могут подоспеть свои. Под горой, на расстоянии двухсот сажен, по направлению к Мишке скакали трое, в них он узнал преследовавших коновода. В этот момент Сергей уже сравнялся с всадниками, один из них повернул на Сергея, тот приостановился, раздался выстрел – красноармеец упал, его нога застряла в стремени, конь в карьер потащил хозяина в гору, к своим. Двое других продолжали скакать на Мишку. Вслед за ними показалась большая лавина конных людей, в них Мишка ждал выручку. Он торопливо дрожащими, обессилевшими руками вставил обойму. Но красноармейцы не доскакали до него, увидев сзади казаков, повернули вправо, к своим. Справа севший на коней второй пост в три человека так же карьером шёл к Мишке. Задержавшись на атаке первого поста, команда красноармейцев дала возможность второму и третьему постам получить коноводов, сесть на коней и быть готовыми к отражению атаки.
Преследующие коновода Мишкиного поста три красноармейца увлеклись погоней и чуть не заскакали в распоряжение белых на обеденном отдыхе. Заскакавший в расположение отряда коновод закричал во всё горло одному из взводных, ближайшему родственнику Мишки:
– Мишку с Сергеем окружили красные, их теперь уже, наверно, изрубили!
Взводный прыгнул на коня, выхватил клинок:
– Взво-о-од, за-а мно-о-ой! – поскакал во всю мочь.
Из разных взводов садились на коней, ломили за взводными.
Мишка еле стоял на ногах, плевал и глотал кровь, красные мухи летали в глазах, дневной свет всё больше становился жёлтым, как будто красной пеленой затягивало глаза.
Справа раздался голос: «Миша! Изрубили они тебя, изувечили!» – черно матерясь, скакали к нему казаки.
Красноармейцы отступили, забрав своих раненых.
3.
Доставленный на перевязочный пункт, Мишка уже ничего не видел, а потом и потерял сознание. Кровь проникла по телу в сапоги и там хлюпала, как вода. На минуту он пришёл в себя, попросил пить. Откуда-то подскакал брат Пётр. Он спрыгнул с коня, подошёл вплотную, уронил голову на грудь, ничего не видевшими от слёз глазами смотрел куда-то, как невменяемый. Два фельдшера, делавшие перевязку, не разрешали брату беспокоить умирающего.
На вопрос Петра о последствиях такого ранения один из них ответил, безнадёжно махнув рукой:
– До вечера, самое большее – до утра, – сказал тихо, чтобы не слышал больной. Но второй фельдшер, военнопленный австриец, возразил:
– Нишаво, два, тыры молнат (месяца), – указал он на небо, – потом ваша брат ишо скашит на конь.
Мишка лежал с жёлтым лицом, в крови и грязи, грудь от рук до пояса огибал огромный бинт, под которым толстым жгутом бугрилась вата, сквозь неё уже просачивалась неугомонная кровь. На руках и в волосах головы – тоже кровь, смешанная с грязью. Мишка дышал слабо, как при пониженной температуре, глубоко дышать не давали всё больше пухнущие лёгкие, причиняя ужасную боль при дыхании.
Пётр стоял над полутрупом обезображенного брата, – посеревший, измождённый тоской, у него тихо катились слёзы. Он был уверен, что в последний раз смотрит на Мишку.
– Ну как же я теперь поеду домой без него? – шептал, не замечая этого, Пётр. – Что скажет Митя? Что скажут отец и мать? Не слышать мне теперь его песен, игры на гармони, с кем делить горе и радости? Отец и мать теперь с ума сойдут или умрут от горя.
Пётр сел на чьё-то лежащее седло, слёзы лились потоком, он не успевал их вытирать.
Тем временем безобразная башкирская телега на деревянных кривых колёсах подъехала, чтобы доставить раненого в станицу Хабарную.
Когда Мишку стали класть на телегу, у него откинулась не прибинтованная рука, Пётр подошёл и вытер кровь, смешанную с грязью, с Мишкиной руки. Брат не знал, что ещё сделать, чтобы ему стало легче.
Отъехавшая телега тряхнула Мишку на каменистой дороге. Он очнулся от резанувшей его боли, кровь опять пошла горлом и носом. Кучер – местный башкир, жалея раненого, несколько раз останавливался, подолгу стоял, ехал и опять останавливался.
По камням трясло и кидало во все стороны. Надвигался вечер, кучер стал спешить, чтобы засветло доехать до Хабарной и сдать больного, пока он ещё живой.
4.
Приняв на себя удары с востока, запада и севера, Орский гарнизон не оставлял города в течение более двух месяцев и не отошёл к Актюбинску – не потому, что не мог этого сделать, окружённый белыми, – не хотел этого до поры до времени. Он в любое время мог разорвать кольцо белых и отойти на Актюбинск. И, наоборот, белые в течение всего этого времени не взяли Орска не потому, что не хотели, а не могли взять – по нерешительности и незнанию тактики командования. Рядовые и младший командный состав бывших фронтовиков и мобилизованного молодняка – казачества шли в бой без желания, при малейшем толчке красных бросали поле боя и уходили кто куда.
Окружив Орск со всех сторон, белые топтались в нерешительности, хотя имели достаточное соотношение сил и вооружения, чтобы атаковать город и выбить из него малочисленный гарнизон. А в то же время Орский гарнизон делал смелые вылазки, и всякий раз белые откатывались далеко за пределы своей позиции…
Это случилось вскоре после ранения Мишки. Чтобы открыть дорогу Орск–Актюбинск, нужную в этот день для перевозок продовольствия и оружия, Орский гарнизон надавил на позиции белых и стал теснить их – Первый левобережный полк и Второй отряд – к станице Хабарной. Советская кавалерия обошла посты казаков правого фланга в несколько человек и прижала их к свежей пашне. Погружаясь в мягкую пахоту, казачьи кони потеряли половину скорости. Красные во весь карьер ломили наперерез, расстояние сокращалось с каждой секундой. Кроме двоих, казаки шли на твёрдую межу и проскочили мимо сбоку летевших на них с клинками кавалеристов. Бобылёв и Ковалёв были смяты. Первого зарубили тут же, его станичники нашли после и похоронили. Ковалёва же обезоружили, кавалерист взял повод его коня, второй погнал сзади, и все поскакали в свой тыл, к Орску.
Родной брат Ковалёва видел издали, как младшего брали в плен и уводили. Старший метался, как на костре, несколько раз спрыгивал с коня, прицеливался и стрелял в группу, уводящую брата, – но было далеко, пули хлопались в землю, поднимая пыль далеко от цели. В бессильном отчаянье он плакал, снова впрыгивал на коня и опять соскакивал на землю, снова стрелял. Теперь ему было безразлично, кого он мог убить в этой толпе – пусть даже своего брата…
Когда нападавшие скрылись за бугром, где были их главные силы, Ковалёв-старший долго прислушивался ко всякому звуку, тем более к выстрелу. Он ждал залпа за горой – это означало бы расстрел брата. Но ни выстрела, ни залпа не было. Ковалёва-меньшого не расстреляли, но никто больше не видел его никогда…
Орский гарнизон, тесня белых на запад, не стал уходить далеко от города. Из Хабарной уже потянулись отступающие – пешие и конные, но красные туда не пошли, отведя свою ударную конную группу на прежние позиции.
Было ясное тёплое июльское утро. Солнце взошло, разливая прозрачный свет по каменистым отрогам Уральского хребта – Губерлинским горам. Лучи солнца устремлялись, пронизывая с конца в конец огромную долину, где приютилась станица Хабарная.
Яркие утренние лучи лились и в открытую дверь комнаты временного военного лазарета. Со двора в дом и обратно сновали женщины в белых, как снег, халатах и таких же косынках с красными крестами на лбу и груди. От них исходил запах духов. Их красивые, тронутые загаром лица, туго перетянутые в талиях стройные фигуры с резко подчёркнутой грудью притягивали пристальные взоры молодых раненых казаков.
Около лазарета стояли тринадцать подвод, доставленные атаманом для отправки раненых на станцию Сары. С кнутом на плечах, с нетерпением ожидающие погрузки раненых, ходили чёрные, грязные, не спавшие ночь возницы – русские и башкиры. Все они настаивали на скорейшей погрузке, чтобы до обеда отвезти и вернуться к молотьбе, пользуясь хорошей погодой. Они куда-то спешили, о чём-то заботились, – только не о раненых, судьба которых им была безразлична, они были просто обуза, отрыв от работы в эту горячую пору.
С востока доносились выстрелы, там лилась кровь. Там ходили друг на друга в атаку, разили друг друга. А неподалёку такие же люди – тоже мучились без сна, голодными возили снопы, молотили хлеб, ссыпали в амбары. Воображали богатство – в результате труда, а благо жизни – в результате богатства…
ГЛАВА ПЯТАЯ
1.
Мишка очнулся, когда солнце поднялось из-за гор. Солнечный свет ломился в двери, разливался по всей комнате, действуя на Мишку возбуждающе и радостно. Никогда он не испытывал такой радости, даже в объятьях Гали, как сейчас, в объятьях солнечных лучей этого тёплого июльского утра. Теперь он в полном сознании отчётливо представлял, какая опасность грозила ему вчера, а теперь она ему не угрожает, он будет выздоравливать. Он сделал всё, что мог бы с трудом сделать в его положении самый матёрый, закалённый в боях, бесстрашный фронтовик. Он не опозорил звание казака, не опозорил свой отряд, не опозорил Веренцовых. Ему будут завидовать недруги, которым хочется, чтобы Мишка умер или остался калекой.
«Но чем же всё-таки кончится вся эта музыка, трудно сказать, – думал он, – ведь дышать-то почти нельзя, да и повернуться – тоже, как будто шомпол проглотил. Вот как ещё больше распухнут лёгкие, то и ноги придётся протянуть, на радость недругам. Ведь у счастливых всегда много завистливых. А где зависть, там и ненависть…»
– Груша, Груша, иди сюда! – кричала со двора подруге заглянувшая в дверь сестра. – Наш герой-то проснулся. У него очень хороший вид! – Семенила к лежавшему на полу Мишке дама в белоснежной одежде. Она присела на полу, тянулась через Мишку, чтобы пощупать пульс.
Мишке захотелось полной грудью вдохнуть запах духов, но лёгкие были обмотаны какой-то упругой резиной и не расширялись.
– Ну, как вы себя чувствуете, молодой человек? – спросила сестра. Подошла вторая, тоже присела рядом.
Мишка тихо сказал:
– Да вот вчера-то как будто лучше было, а сейчас все места болят. Добавили, что ли, вы мне здесь за ночь-то, пока я спал. Теперь и грудь болит, и спина болит, и руки, всё болит. А внутри – как будто кол забитый.
Сёстры смеялись, уверяли, что всё пройдёт.
Мишка покосил глаза и залился румянцем, улыбнулся, отвернув голову в другую сторону.
– Что с вами, что вы смеётесь? – спросила сестра.
– Я ничего, так, вспомнил кое-что, – ответил уклончиво Мишка, подумав: «Ну как же не смеяться, ведь ты села-то как, проклятая, если ещё немного повернёшься, то уж и не знаю, что делать, подняться-то не могу».
Сестра быстро разрезала на груди больного бинт вместе с ватой и стала отдирать прилипшую марлю, что вызвало острую, нестерпимую боль.
В комнату вошёл приехавший из отряда Вася Тырсин. Увидев Мишку живым и в памяти, он чуть не бросился Мишке на грудь.
– Мишка, ты – герой, мы, все станичники, признаём это. Таким и только таким должен быть русский, да ещё казак, от тебя только этого и можно было ожидать.
– Геройства, Вася, тут никакого нет с моей стороны. Если бы я на них напал, один на всех, то – герой, а то я вынужден был защищаться, хорошо зная, что плен – это страшная, мучительная смерть, к этому уж привыкли и мы, и они. Другое дело, что не растерялся. Видел перед глазами смерть, а дрался, как на улице с товарищами. А большевиков я не осуждаю, если бы даже и убили меня. Им тоже не оставалось ничего другого, как только убить меня поскорее, на то война. Я теперь век буду знать, что кавалеристу с пешим драться огнестрельным оружием нельзя. Когда пехота бежит с винтовками от кавалерии, то они просто дураки и трусы. Одному пехотинцу с пятью конными можно…
Мишка прервал разговор. Вошедшие сестра и доктор запретили больному говорить. Вася с неловкой вежливостью извинился.
Разбинтованный Мишка опять потерял сознание. Когда уехал Вася, он не помнил. А придя в сознание, услышал перекличку раненых, отправляемых в Оренбург. Доктор читал: Гавриил Смородинов, Андрей Межуев, Александр Новоженин, Михаил Веренцов, Дмитрий Андронов…
Водворённые на телеги раненые потянулись обозом на станцию Сары через хутор, в котором останавливался двое суток назад следовавший на фронт отряд. Там Оля, ничего не знавшая о том, что Мишка изранен до безнадёжности. Не знал и он о том, каким тяжёлым будет этот переезд...
На телегу положили одного, тогда как на других подводах было не меньше, а то и больше четырёх человек. Одна из провожающих сестёр пожелала ехать с Мишкой, взяв его под опеку. Она села в телегу, положила Мишкину спину и голову к себе на колени, чтобы тяжелораненого не трясло. Только это спасло его от смерти.
2.
Дмитрий Веренцов выходил из Биржевой гостиницы, когда столкнулся с приятелем, офицером Савиным.
– Дмитрий, я тебя давно ищу. У тебя на Орском фронте есть родственники Веренцовы? – спросил в волнении Савин.
– Да Веренцовых там много и два родных брата.
– Да вот я читал газету, где было сообщение о раненых на Орском фронте, – помялся Савин, – ну, там была одна фамилия Веренцовых, среди раненых, а инициалы забыл…
Расспросив, за какое число была газета, Дмитрий чуть не бегом побежал в газетный киоск. Может быть, Мишки уже нет в живых – с момента ранения прошло семь дней. Если в газете указано «Веренцов», то почему-то сердце подсказывало, что это не кто иной, как Мишка. Он прочитал: «В результате упорных боёв на Орском фронте 13 июля 1918 года наши потеряли ранеными 28 человек на участке Кумакской горы: Салов, Звёздин и т.д. К западу от Орска за 29 июля – два человека: М. Веренцов и Д. Андронов». Указывалось, что все раненые 31 июля отправлены в военный лазарет города Оренбурга.
У Дмитрия задрожали губы, он позвал извозчика и велел гнать в карьер к воротам лазарета.
Мишка пережил самые страшные дни в Оренбурге – трое суток его жизнь боролась со смертью. Он больше находился без сознания; в минуты прояснения просил сестру Катю сходить на базар, передать с любым человеком из Благословенной записку семье, чтобы поскорее приехали увидеться, может быть, в последний раз.
Катя с удовольствием соглашалась, приходила с базара и говорила, что всё исполнила, но родные не приехали. Записки Катя не передавала, не хотела, чтобы к Мишке приехали родные и расстроили его ещё больше, усугубили бы без того тяжёлое положение. Катя не отходила от его койки, она и сейчас сидела на табуретке рядом, несколько раз в день перебинтовывала его раны. Частые перевязки освежали их, они заметно затягивались, были сухи, не гноились.
– Миша, очень плохо держится у тебя бинт, – замечала Катя, – очень неудобное место ранения, плохо бинтовать.
– В этом-то и беда, – тихо говорил Мишка, – это большевики виноваты, – сколько их не проси, они назло делают, стреляют в такие места, которые лечить неудобно. Они даже иногда способны на то, что ранят такое место, которое женщине неприлично перевязывать.
Катя краснела, смеялась, закрывала лицо ладонями, но не уходила.
По аллее лазаретного двора Дмитрий Веренцов чуть не бежал. Проходившие мимо обращали внимание, смотрели вслед бравому казачьему офицеру. Он не обращал внимания ни на кого. На высоком крыльце хирургии Дмитрий встретил белоснежную «милосердную» сестру. Она лукаво заглянула Дмитрию в глаза, быстрым взглядом смерила его с ног до головы и спросила:
– Чем могу служить, господин офицер?
– Извините меня, я к вам с просьбой, – сказал Дмитрий, – я обошёл уже весь лазарет, все хирургии и терапии, в вашу хирургию с последней надеждой. Не находится ли у вас на излечении молодой казак с Орского фронта, Веренцов Михаил?
Сестра улыбнулась:
– Вы, вероятно, его брат?
– Да, да, брат, – подтвердил повеселевший Дмитрий. Он уже понял, что Мишка здесь и – по виду сестры – ничего опасного нет.
– Да, он здесь. Я дам вам халат и пойдём вместе. Три дня и три ночи ваш брат находился без сознания, а теперь его состояние улучшилось. Трое суток я и другая сестра дежурили около него, а теперь он уже острит над собой, над нами, мы смеёмся и рады, что спасли этого молодого человека. Девушка – няня его палаты не отходит от его койки.
Дмитрий спросил, каким оружием ранен брат и насколько опасное ранение.
– Двумя пулями: в грудь навылет, сквозь лёгкое и в бок, а от третьей пули получил контузию головы. Вот, кажется, и всё.
– Да уж хватит и этого. Хотел бы я половину этой доли взять на себя, – шутливо-задумчиво проговорил Дмитрий.
Около двери палаты через плечо сестры Дмитрий увидел девушку, сидящую около одного из раненых. Когда Дмитрий стал подходить к койке, Катя робко попятилась к стене. Мишка жестом показал на табурет.
– Не беспокойтесь, девушка, сидите, я постараюсь вам не мешать, – мягко сказал Дмитрий.
Катя замерла на месте, ничего не ответила, с интересом рассматривая Веренцова-старшего. Дмитрий понравился ей ещё больше Мишки – и похож на него, и внушал чувство старшего, заслуженного человека.
Катя наконец догадалась предложить Дмитрию сесть.
– Ну, как всё произошло, расскажи? – поторопил Дмитрий.
Мишка рассказал о последнем столкновении на посту.
Уходя, Дмитрий попросил сестру побольше уделять внимания брату. «Сейчас же, как только выйду отсюда, пойду на базар и пошлю записку домой», – решил Митя.
3.
Степан Андреевич и Наташа приехали на другой день рано утром. Мишке опять было очень плохо. Катя сидела около него и часто подавала пить.
Наташа утирала слёзы, ничего не говорила от волнения, даже забыла поздороваться.
Степан Андреевич гладил Мишкину не прибинтованную руку, спрашивал сына:
– Цела ли вторая-то рука?
– Целая, а куда она денется? – успокаивал Мишка, – вот только повернуться нельзя. А у этой руки сзади лопатку рассадили, вот её и привязали.
– Вчера разнёсся слух по станице, что тебя сильно изрубили, и чуть живого отправили с фронта, а куда – никто не знает. А вечером получили записку от Мити, – говорил отец. – Мы бы раньше пришли, да всё ходили по двору, искали эту самую вашу, первую, как её… не выговоришь, хреновину, штоль.
Катя в дверях расхохоталась. Мишка поправил:
– Не так, а хирургия…
4.
Михаил поправился. Он уже выходил на высокое крыльцо хирургии, сходил в садик, сидел на скамейке. Его всегда сопровождала Катя.
В палату вбежала сестра и предупредила, чтобы все привели себя в порядок – сегодня лазарет посещает сам атаман Дутов и его начальник штаба Акулинин.
Прошло несколько минут, по коридору заметалась лазаретная прислуга, потом послышались шаги нескольких человек в сапогах, звон шпор.
По коридору двигались двое: по-медвежьи клонясь вперёд, шёл полный, с заметным животом, чёрный и неказистый Дутов, погоны генерал-майора чернели кромкой, что означало окончание их владельцем Академии Генерального штаба. Спутник его был полной противоположностью угрюмому, молчаливому атаману, только погоны красивого, радостно-темпераментного полковника Акулинина так же говорили о выпускнике Академии. Приотстав от них, волевого средоточия Оренбургского казачества, следовал молодой подъесаул с аксельбантами – адъютант войскового атамана.
В сопровождении начальника лазарета отставного полковника Канчели и толпы лазаретной прислуги Дутов вошёл в первую палату, спрашивая у всех подряд фамилию, какой станицы, на каком фронте ранен, когда и каково ранение. Ответы некоторых записывал в блокнот. Вошедший главный врач военнопленный австриец взял под козырёк, Дутов и Канчели поздоровались с ним за руку.
– Почему офицер Зайцев умер от ран? – нахмурив брови, свирепо взглянув на главного врача, чётко спросил Дутов. Его взгляд бросил в пот главного врача:
– Медицина, Ваше превосходительство, бессильна бороться с подобными ранениями. Господин офицер Зайцев имел ранение в живот, что считается самым опасным из ранений, кроме тех, после которых смерть наступает мгновенно, то есть сердца и мозга, – детально разъяснял врач, но атаман уже спрашивал следующего раненого. Потом, слегка наклонив голову, повернул её к врачу:
– Если вы хоть одного ещё залечите на тот свет, едва ли кто позавидует вашему положению, – уже на ходу бросил Дутов.
Во второй палате Дутов обратил внимание на раненого казака с раздробленной челюстью и спросил его фамилию, тот сказал, но понять было нельзя. Сестра повторила фамилию раненого. Дутов покраснел, озлился:
– Ах, вон это кто! Ты тот самый самострел? – Казак часто моргал глазами, виновато отворачивал лицо. Дутов продолжал, – Большевиков испугался? Воевать не хотел? Залез в погреб – стреляться стал? Его тоже нужно вылечить, чтобы потом расстрелять, – сказал Дутов врачу.
Вся толпа заполнила Мишкину палату.
– А вот этот с Орского фронта, – сказала сестра и показала на Мишку пальцем, но Дутов не расслышал, он подошёл к первым койкам, где лежали казаки второго округа.
– Какой станицы? Где и когда ранен? – спрашивал Атаман.
– Полтавской станицы, Звёздин, а этот Салов. Ранены на Кумакской горе, 20 июля, под Орском.
Адъютант тихо переспрашивал сестру о Веренцове, сестра рассказывала. Дутов и Акулинин подошли к Мишке.
– Вы Веренцов? Благословенский? – спросил атаман. Мишка кивнул головой. – До дежурной палаты дойдёте?
– Потихоньку дойду, – ответил Мишка.
Дутов сказал: «До свидания» и вышел. За ним потянулись все. Акулинин приостановился в дверях, ещё раз пристально посмотрел на Мишку, сказал Дутову что-то на иностранном языке.
– Миша, вставай, – сказала вбежавшая после ухода начальства сестра, – тебя ждут в дежурной.
Они суетились, торопливо собирали поднятого с постели Веренцова, а потом повели в дежурную комнату, где сидели лишь Дутов и Акулинин. Адъютант и Канчели ждали в коридоре.
– Сядьте, – сказал Дутов вошедшему Мишке, – вы как доводитесь Дмитрию Степановичу Веренцову? – спросил атаман. – Расскажите, что произошло в момент вашего ранения на позиции. А то у нас очень разноречивые сведения. А запрашивали вашего начальника, – не ответил. – Впервые за время посещения лазарета весело сказал Дутов.
Мишка равнодушно, без запальчивости рассказал меньше половины того, что было на самом деле.
Дутов записал что-то в блокнот, потом выразительно посмотрел на Мишку:
– А что это за инцидент был у вашего начальника с одним из казаков после вашей отправки во временный лазарет?
Мишка ответил, что ему это неизвестно, так как он из Хабарной отправлен прямо в Оренбург, на фронт не заезжал.
– Дмитрий Степанович сегодня ночью выехал на Сызранский фронт со своей частью. Вы это знаете?
– Никак нет, Ваше превосходительство, мне это неизвестно, – сказал Мишка и тихо встал, поддержанный вошедшей сестрой.
Дутов и Акулинин кинули руки к козырькам в знак прощания.
Мишка поклонился и вышел.
– Что, Мишенька, сказали вам они, а вы ответили, что вам неизвестно? По выражению вашего лица я поняла, что это сообщение вас несколько огорчило, – спросила, заглядывая в глаза, старшая сестра.
Мишка не любил передавать слышанное, но, замечая отношения этой сестры с братом, решил сказать:
– Да мой брат, который, может быть, вы помните, приходил ко мне раза три, уехал сегодня на какой-то фронт.
– А разве вы не знаете, на какой фронт? На Сызранский, – сказала лукаво с залитым румянцем лицом сестра.
– А откуда же вам известно это? – спросил Мишка, подумав: «Ну, ясно, ты его провожала, проклятая. Если бы он уехал днём, то ты могла бы и не знать, а уж если ночью, то, конечно, от тебя его утащили».
Сестра не знала, что ответить.
– Да… я и моя родственница провожали её мужа… Ну, я там случайно увидела вашего брата, – сказала она.
«Не та ли родственница, которая доводится временной женой Дмитрию?» – подумал, улыбаясь, Мишка и решил дальше путать сестру:
– А кто провожал Митю? Жена не провожала его?
Сестра живо ответила:
– Нет, Миша, жена и другие родственники не провожали. Дмитрий Степанович отправлен внезапно, никто из близких не знал. Провожал его один из друзей, некто Грачищев.
«Ничего себе, случайно она увидела его на вокзале, а все подробности знает. Спроси, сколько белых взял Дмитрий, она и это скажет», – подумал Мишка.
Подошла Катя, сестра как бы передала ей Мишку и быстро скрылась в дверях первой попавшейся палаты.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1.
В декабре, как и год назад, до Оренбурга стали доноситься звуки артиллерийских выстрелов. Красные части рвались к Оренбургу и со стороны Ташкента на участке Челкар, чтобы соединиться с наступающими со стороны Самары.
В октябре с Ташкентского фронта на Самарский на виду у Оренбургского гарнизона пролетел аэроплан для связи. Куда он следовал и чей он, командование белых узнало значительно позже того, как аэроплан благополучно пролетел над всей территорией белых и приземлился в расположении советских войск. Такова была разведка белых. Разведчики и контрразведчики их числились только на бумаге – следствие того, что среди высших командиров не было ни единодушия, ни слаженности. Погоня за чинами и славой плодила интриги, подсиживания, ненависть, отсюда нередкие случаи отказа в помощи даже в критические моменты, влияющие на общий ход событий. Всякий смотрел Наполеоном… Корпус Акулинина, наступающий на Оренбург весной 1919 года со стороны Нежинской – Сакмарской, беспрерывно враждовал с корпусом Жукова, наступающим со стороны Меновой двор – Павловская. Акулинин «сам» хотел взять Оренбург, только сам, чтобы не делить ни с кем лавры победы. Жуков, в свою очередь, хотел единолично пожинать те же лавры – потому они не подавали друг другу помощи, когда один из них вёл наступление на город, потому они так и не взяли Оренбурга, протоптались у его стен, чтобы обоим уйти в Сибирь и дальше…
Непоправимой политической глупостью белых стало и то, что командные, боевые должности занимались не по способностям, а по чинам. Иной вынес на своих плечах полный комплект действительной военной службы и всю войну 1914–1917 годов, имеет полный бант крестов за боевые заслуги, но если он «из простых», то красная цена ему не больше как прапорщик, и командует он не больше как взводом. А какой-нибудь родовитый «мамушкин сынок» с большими связями добился в тылу до есаула или выше, командует полком, гоняет младшего по должности офицера-фронтовика, не считая его за человека, не считаясь с его советами в боевой обстановке, потому что тот «из простых». Эти родовитые прямо говорили: «Как только побьём большевиков, так потребуем девальвации офицерства… Все “серяки из простых” отсеются и превратятся в рядовых или заштатных»… Так находила выход неприязнь, даже ненависть к офицерам из народа вроде Дмитрия Веренцова, вызывая в ответ понятные чувства…
Призрак большевистской опасности снова задышал над Оренбургом в морозные ноябрьские дни 1918 года. Отчётливо слышались орудийные выстрелы по ночам, напоминая уже знакомую тревогу.
Чувствовали, осязали близость смерти, её дыхание в лицо. Не хотелось слышать выстрелов, доносившихся с фронта Новосергиевка–Платовка–Гамалеевка, но его гул гипнотически приковывал к себе, все невольно к нему прислушивались. Одни – с испугом, тревогой, другие – с радужными надеждами на счастливую жизнь…
Многие спали не раздеваясь. Комнаты были не топлены, не метены, не убраны – не хотелось ничего делать, даже готовить пищу.
Встретившиеся на улице родные или знакомые старались разойтись незамеченными, чтобы избежать разговоров – разговоры казались страшными. Каждый вселял испуг, потрясал, близкий мог сообщить только жуткие новости.
Учебную стрельбу в городе запретили, она пугала власть имущих. Казаки из посёлков и станиц боялись ехать в город с продажей, чтобы не пропасть там – местные большевики и сочувствующие грозили захватить Оренбург внезапно, восстанием.
Фронт двигался, как грозовая туча, от которой невозможно укрыться. Отпущенные с фронта по болезни, ранению и другим причинам казаки заливали тревогу самогоном. По три дня не топили печи, ленились ездить в лес за дровами, а если, приехав рысью из леса, и привозили немного дров, все они уходили на самогонокурение, а если не хватало, приходилось ломать плетни, чтобы закончить опару. За сеном в поле не хотелось ехать, иногда даже готового сена с повети сбросить некогда, нужно спешить в гости.
– Чёрт с ней, да и с коровёшкой-то, пусть зевает во всё хайло, не пойду к ней. Она всё равно уж почти перестала доиться, а советские придут, то так и так из шкуры её вытряхнут. Пусть пока стоит, газеты читает, – говорил, еле выговаривая слова, станичник, обнявшись с другом за столом.
Жёны-казачки редко теперь возражали против кутежа мужей, не гоняли их ни поленом, ни ухватом от свата или из шинка, а смотрели на них, как смотрят на опускаемого в могилу близкого, милого. Дни пребывания мужа в стенах родного дома были сочтены – уйдёт и, может быть, навсегда…
Хозяйство и всё нажитое веками добро не только уже никого не интересовало, не радовало – оно всё более тяготило, лучше бы этого добра не было совсем.
Изумрудами искрился снег в холодные прозрачные тихие декабрьские дни, усиливая орудийный гул с фронта Общий Сырт.
2.
Мишка подъехал к воротам – он ездил в санках по делам, конь остановился, Мишка выпрыгнул из санок и от сотрясения почувствовал боль в груди. «Как же я буду служить? Неужели в нестроевщину придётся идти?» – подумал он.
– Миша, тебя атаман звал, – сказала Наташа, когда Мишка въехал во двор. Он сделался мрачнее тучи: угроза разлуки со всеми, кого любил, угроза гибели в расцвете сил и надежд, угроза страданий и потрясений – всё встало перед ним великим призрачно-чёрным сводом. В воображении мелькали картины фронтовых ужасов. Мрачный, Михаил сел за стол…
В станичном правлении никого не было. Больных и выздоровевших раненых, кого касался бы приказ атамана округа Бурлина о сборе всех эвакуированных с фронта по ранению или болезням или оставленным ранее по различным причинам, в станице почти не осталось. В правлении сидел лишь атаман. Осматриваясь кругом, как бы боясь кого, он вынул из папки с секретными бумагами летучку, где говорилось: «Михаилу Степановичу Веренцову с получением сего немедленно явиться лично к атаману первого округа Оренбургского казачьего войска, есаулу, господину Бурлину Дмитрию Гавриловичу, город Оренбург. 2 января 1919 года. №42-8–11».
– Ну как, Миша, опять служить будем? – вопросительно-ласково взглянув на Веренцова, спросил атаман.
Мишка криво улыбнулся:
– Ничего не поделаешь, нам, состоящим в отрядах, называемых партизанскими, оставаться нельзя – большевики голову оторвут и собакам бросят. Я тоже у них буду числиться как доброволец, несмотря на то, что за мной с нагайками двое приезжали из отряда. Я не хочу сказать, что боюсь фронта, боюсь смерти, но канителиться не хочется, расставаться с родными и друзьями не хочется. А сколько там приходится испытывать горя, лишения, холода, голода… А за что это всё? Кому это нужно? Кому от этого польза? Да никому.
– Как это никому? – возразил атаман, – А разве ты не знаешь, что мы боремся, чтобы истребить большевиков и установить нашу казачью, независимую власть? Разве ты не знаешь, что казак и мужик – враги? Ведь все мужики против нас, даже не исключая тех, которые находятся в наших рядах. Я разговаривал с Дмитрием Степановичем, так он именно вот так смотрит на эти вещи. Я не знаю, как он не внушил тебе эту истину.
– Это всё ерунда, что мужики нам враги – это неправда, – запальчиво возразил Мишка. – Есть такие мужики, которые дороже казака в десять раз, а есть и казак такой, у которого ни кола, ни двора, то он так и смотрит к большевикам убежать. Здесь не сословье играет роль, а классовый признак. А классы разделяются по имущественному положению: богатые, зажиточные, средние, бедные и гольтяпа, подзаборники. Богатый мужик всегда будет идти с нами. Разве можно мужиков считать врагами, если они богатые? А-а-а, ну вот. Я лежал в лазарете с одним офицером, так он мне каждый день такую проповедь читал. Правильно, он умный, я ему верил.
– Ты, Михаил, не дури, – предостерёг атаман, – не вздумай при начальстве так говорить. Ты знаешь, как сейчас строго? И братья, и родство, и заслуги не помогут. Пока разберутся, а ты уже сгинешь.
– Да ничего и не будет. А всё это правда. Дутов-то не захотел с мужиками считаться, сказал, что одни большевиков побьём, не хотел с ними разговаривать, не принял их представителей, стал говорить только с войсковым кругом, а теперь и зажиточные мужики откололись. Им к большевикам идти не хочется, и Дутов их не берёт. В этом отношении наш атаман сделал непоправимую ошибку. Митя наш все надежды возложил на атамана, чуть не молится на него, а подумать как следует, то он согласится со мной. Мужиков надо было взять под своё крыло, отдать им все помещичьи земли, а которые живут с казаками, наделить своей землёй. А Дутов сложил им дулю и сунул под самый нос. А они теперь сунут Дутову не дулю, а что почище. А их ведь в Сибири очень много, мужиков-то. В одном Кустанайском округе битком набито, вот им-то как раз Дутов и сунул дулю, когда они попросили прислать своих представителей на войсковой круг. А теперь неустойка, он стал их мобилизовывать. Вот они теперь нам и навоюют, держи карман шире. Они повернутся задом к большевикам, вот посмотрите – повернутся… – Мишка замолк. Атаман тоже молчал.
– Да-а-а, – тянул неопределённо атаман. – Да-а-а. Ты, язви те, пожалуй, в адвокаты скоро махнёшь. Да ты, может быть, и прав, собака. Вот только Дмитрий Степанович тебе сейчас почесал бы мягкое место, если бы услышал твою проповедь…
Мишка рассмеялся.
– Да нет, он бы только сказал: «Дурррак ты, суккин сын», а потом плюнул бы, повернулся и отошёл. А после пораздумал бы и согласился со мной, а потом за это кличку бы мне какую-нибудь дал: или «аблакат» или просто «зубастовщик».
– Ну, ладно, Михайло, бывай здоров. Дай Бог тебе такое счастье, какое ты до сих пор имел. Не имел бы счастья, так и от одного большевика не ушёл, не только от двадцати. Мне ребята рассказывали. Молодец, одно слово – молодец. Если так будешь бороться за жизнь, то ни один чёрт тебя не возьмёт ни на воде, ни на земле, – атаман взял Мишкину руку, крепко пожал, потом подвёл к огромному портрету:
– Вот за кого мы должны воевать, за их славу, за их непоруганность, за честь и славу, и непоруганность казачества, и за самих себя. Это наш генерал, нашей станицы. Он в Петрограде, но его портрет, его тень нераздельна с нами, с его станичниками.
С портрета смотрело лицо пожилого человека с генеральскими погонами: генерал-майор Василий Дмитриевич Тырсин.
Рядом с портретом на огромной доске золотом – казачья эмблема: «Дай Бог каждому казаку напоить своего коня в реке Шпрее».
На Шпрее стоит Берлин. Эмблема напоминала о временах императрицы Елизаветы Петровны – 1760 годе, когда русский корпус занял Берлин – столицу Пруссии. История понадобилась для воспитания казаков в патриотическом духе – столкновение с Германией назревало несколько десятков лет…
3.
С обычной печалью и заботой на простодушном лице встретила Мишу мать на пороге родного дома, который дышал прощаньем.
Каждый предмет, каждая вещь как будто звали Мишку. Он вошёл в комнату, тёмную, грустную. Состояние было странное, в нём, казалось, высоко звенела какая-то струна… Не хотелось говорить. Он вышел во двор прощаться с животными.
Кони подходили к нему, нюхали, лизали его – они больше людей чувствовали, что их любимого хозяина скоро не будет с ними…
С северо-запада донеслись звуки орудийных выстрелов. В сердце усиливалось волнение, его защемило какой-то тупой, угнетающей болью.
Чуя разлуку с хозяином и надвигающуюся беду, завыла собака. Пустыри сгоревших со всем пристроем домов наводили ужас…
Михаил зашёл в дальний сарай. В глубине его, прислонившись к стене, стоял Степан Андреевич. Он заметался, как будто попался с кражей. Он был погружён в какие-то неотвязные мрачные думы, но сын помешал ему. Теперь он виновато смотрел бессмысленными глазами, он был, как сумасшедший. Наконец, с трудом выдавливая слова, отец заговорил:
– Миша, сынок, мы, наверное, больше не увидимся. Ты сейчас уедешь, и я тебя больше не увижу никогда. Про Митю и Петю ничего не слышно, поди, уж в живых нет. И тот, и другой, говорят, где-то в Уфимской губернии бьются. Но они хоть немножко умеют себя сохранить, а ты ведь совсем глупый. Ну, сынок, – подошёл Степан Андреевич ближе, – дай хоть я на тебя насмотрюсь досыта. У
у Мишки капали слёзы и тут же на груди замерзали.
– Чувствует моё сердечушко, что я не дождусь вас ни одного, – продолжал отец, – только и увижу теперь я вас в гробах, а может быть, и ещё хуже: побросают ваши тела по степям на съеденье волкам и птицам. – Степан Андреевич держался за столб обеими руками. Он был бледен, как снег, от слёз смёрзлись борода и усы. Руки его вдруг оторвались от столба, он упал на живот, вытянув руки вперёд по полу сарая.
Мишка подбежал, поднял и поставил отца на ноги, тот шатался, готов был упасть снова. Сын варежкой вытирал на лице отца слёзы.
– Миша, сынок, дай я насмотрюсь на тебя, – бессвязно, путая слова, говорил отец. Глаза его были закрыты. – Красавец. Красавец ты наш, давай лучше умрём вместе здесь, дома, нас зароют вместе, вместе, сынок, будем лежать. Всё равно ведь умирать: вас там постреляют да побросают по степям, а нас здесь.
Мишка посадил отца на ясли, сел рядом сам, успокаивал, у обоих слёзы лились ручьями.
– Не горюй, тятя, всё пройдёт: подерёмся-подерёмся с большевиками да помиримся. Ну, если нам налупят бока, то примем ихнюю власть, будем жить, куда деваться?
– Что нам, казакам, требуху выпустят, то я хорошо знаю, – шептал отец. – Ведь нас, казаков, во сколь разов меньше, в тридцать пять раз, вот как. Казаков пять мельонов, а мужиков – сто семьдесят, а што у Колчака, говорят, три мельона, то мужиков считать нечего. Так и так нам сдыхать. Но вот хозяйство-то жалко: наживали-наживали, а потом отдай каким-то псам, а сам умирай допрежь время. – Степан Андреевич пришёл в себя. – Ну, давай пойдём в избу. Надо послать за самогоном, да и шарахнуть перед смертью-то, мать её…
Михаил вытер последние слёзы, улыбнулся. Они пошли через передний двор в землянку. Мишка послал отца вперёд, а сам решил прикрыть почему-то открывшиеся ворота. Он выглянул на улицу: из-за соседнего угла полным карьером на красивом осёдланном коне вылетел всадник в офицерской шинели и папахе. Заиневевший башлык закрывал почти всё лицо до самых глаз. Прежде чем Михаил окинул всадника взглядом с ног до головы, тот сделал крутой поворот вправо и, с трудом сдерживая коня, остановился в двух метрах. Он ухарски выбросился из седла, сделал шаг вперёд, подчёркнуто стукнул шпорой о шпору и взял руку под козырёк:
– Здравствуй, Мишенька. – Это был брат Дмитрий. – Миша, эвакуироваться нужно. Как можно скорее. Красные уже подступают к станции Общий Сырт, угрожают атаковать город не позднее как дня через два – одновременно с севера и запада, а может быть, даже с востока, – нервно говорил Дмитрий. – А где же тятя? Ему нужно уехать. Ведь большевики откопают его прошлое, когда он был атаманом станицы, и за это могут расстрелять. Ну, давай хоть поздороваемся.
И братья расцеловались.
– Ну, пойдём, Митя, что же я стою, как истукан, не приглашаю, – спохватился Мишка и повёл коня Дмитрия.
– Милые мои детушки, – голосила выбежавшая из комнаты Елена Степановна, – отец, отец, выходи скорее! Хоть на одну минуточку, да мы почти все вместе, только нет Пети. Милый ты мой сыночек, сокол ты наш ясный, ну-ка, я хоть посмотрю на тебя и насмотрюсь на всю жизнь, – в слезах развязывала мать у сеней башлык сына.
Дмитрий быстро вошёл в комнату, быстро разделся, как бы доказывая, что он принадлежит этому дому и этой семье. Он был щегольски обмундирован во всё новое. На румяном лице сияла улыбка, как будто он не был подавлен никакими событиями.
Степан Андреевич, выглядевший дряхлым стариком, болезненным движением слез с печки на пол, обнял сына. Его голос дрожал:
– Митя, сыночек, ну что же это делается? Ведь они, эти супостаты, совсем угонят вас, разлучат с нами навеки. Чует моё сердце, что я больше не увижу вас никогда, красавцы мои писаные. Вас там побьют, а нас тут постреляют. Мать, смотри на чадушек своих. Ведь сейчас их отнимут у нас и не отдадут нам никогда. Наташа, ну а ты что стоишь? Что не прощаешься?– Наташа стояла вся в слезах. – Ну, расскажи, сынок, как там на фронте и куда ты теперь едешь?
– На фронте гадко: мы отходим на всех направлениях, а красные движутся, уже подступают к городу, в некоторых местах от города на сорок-пятьдесят вёрст, – говорил Дмитрий. – Я сейчас еду на Нежинку – Сакмарскую – Имангулово. Мне некогда даже покушать у вас, уж, покушаю, видно, дома, спешу заехать туда, проститься с семьёй. Как знать, может, и на самом деле в последний раз вижу свою родину[35]… Итак, прощайте. Не только самогона, даже ложки щей некогда у вас скушать. Вот вам мой наказ: тяте нужно уехать из дома, скотину отогнать в киргизы на тебенёвку[36], женщинам разойтись по бедным родственникам или знакомым хотя бы на первый момент, как придут красные. Повторяю, тяте ни за что не нужно оставаться, чтобы не быть поставленным к стенке. А повод к этому они найдут веский: во-первых, тятя атаманил целых девять лет, а во-вторых, является родителем трёх сыновей, головы которых совсем не дёшево расценили большевики. Разве мало в занятых станицах и посёлках случаев расправы с отцами, сыны которых ушли с белыми? Остаться тяте дома – это значит подписать себе смертный приговор.
Степан Андреевич задумчиво, равнодушно утвердительно кивал головой. Думы давили его. Едва ли он слышал, что говорил сын. Елена Степановна в упор смотрела на Дмитрия, часто смахивая слёзы.
– Сыночек, милый, как же вы бросаете нас? Бросаете своих детушек, бросаете родное? – причитала с плачем мать. – Вон и Миша-то засобирался, заспешил, как на пожар. Как будто вам дома противно стало с нами, торопитесь скорее встретиться со смертью?
– Мама, – сказал Дмитрий, – нас долг зовёт, нас зовут поля, где за честь, свободу и непоругание казачества и вас всех борются наши братья-станичники. Они борются за великое, святое дело казачьей чести, традиций своих дедов, они отстаивают наши угодия и привилегии, они истекают кровью в непосильной борьбе, они руку протягивают нам, нас зовут на помощь. Ну какое же мы имеем право не пойти им на помощь? Какое имеем право жалеть жизнь, если придётся умереть? Что стоит наша жизнь? Мы должны погибнуть, если не победить… Миша, ты в Оренбург выедешь завтра утром, а тятя должен будет выехать тотчас, как только город займут красные. А я сейчас должен спешить. Мама, прикажи вывести мне коня. Ну, прощай, тятя! Прощай, мама! – Дмитрий крепко поцеловал родителей. Они не могли отвечать, стояли, как изваяния, слёзы текли по щекам…
Сплошной бисер морозных, снежных звёздочек искрился на необозримом саване степных равнин оренбургского казачества. Дыша морозным паром, конь Дмитрия неутомимо скакал к Гребеням и дальше, на Сакмарскую станицу.
Вот уже Гребени остались позади. Навстречу плыл первый холм, служивший естественным рубежом для прикрытия станицы с юга. За первым холмом – второй, более похожий на складку, от него потянулись казачьи дворы. Они бежали сбоку, за ними плыла навстречу станичная площадь.
Дмитрия кольнуло в сердце, когда он увидел место на площади против станичного правления, где несколько месяцев назад тёмной июньской ночью он учинял расправу над местными казаками, уличёнными в сочувствии большевикам. Дмитрий нервно пришпорил коня, отвернул лицо, злобно сплюнул. В воображении возник момент расправы, когда он в темноте поднёс тяжёлый холодный кольт вплотную ко лбу и выстрелил, на мгновение увидев озарённое огнём лицо бывшего местного атамана. Дмитрий нахмурил брови, ещё раз сплюнул, рванул повод и поскакал во весь карьер на Имангулово…
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1.
– Наташа, наверное, ты меня завтра повезёшь в Оренбург, – сказал Мишка жене, – меня там оставишь, а коня приведёшь обратно. Верхом мне ездить пока нельзя, наверное, пристроюсь пока где-нибудь в обозе.
– Хорошо, Мишенька, поедем. И я ещё попрощаюсь там с тобой, – сказала заплаканная Наташа.
От орудийных раскатов, доносившихся с гор Общего Сырта, дребезжали стёкла оренбургских домов. Михаил с Наташей ехали по улицам города.
На пороге приёмной атамана округа Михаилу перегородил путь какой-то офицерик. Он пристально посмотрел на Михаила и попятился назад, в приёмную, видимо, решив ждать представления этого молодого казака без погонов. Где и когда он видел его, офицер не мог припомнить.
Рыжеватый, выше среднего роста, с правильным, простым и добродушным лицом атаман Бурлин стоял за столом. Повернувшись вполуоборот к Веренцову, он выслушивал адъютанта с небрежно захлёстнутым через плечо назад аксельбантом. На правой руке казачьего офицера-адъютанта висела нагайка. С голубого верха лохматой папахи крестом хлестал серебряный галун. Адъютант зачем-то часто ухарски брал руку под козырёк. Бурлин косил глаза в сторону Веренцова.
Офицер у порога переминался с ноги на ногу, ждал Мишку, не уходил.
– Ну, я вас слушаю, молодой человек, – обратился к Веренцову атаман, обхватив обеими руками концы небольшого столика после того, как адъютант резко ударил шпорой о шпору, круто, как на ученье, повернулся и, звеня шпорами, быстро вышел из кабинета.
– Я по вашему вызову, господин есаул, из Благословенной станицы – Веренцов Михаил Степанович, – сказал Мишка.
– Если не ошибаюсь, вы – старший урядник, ещё две ступени и вы – прапорщик… буду с вами откровенен, – вкрадчиво сказал Бурлин, кинув взгляд к порогу. Можно было судить, что атаман не стесняется присутствия свидетеля.
Атаман продолжал:
– Положение Оренбурга критическое: большевики рвутся через Имангулово – Сакмарская, город продержится не более двух-трёх дней. Вам, благословенцам, а тем более Веренцовым, оставаться нельзя. Дмитрий Степанович у меня вчера был и просил меня послать казака к вашему отцу, чтобы убедить его покинуть станицу в момент подхода к Оренбургу большевиков. Вы зайдите ко мне ещё сегодня часа в четыре. К этому времени я буду иметь сведения о Дмитрии Степановиче. Он сегодня рано утром повёл наступление на врага в районе Дедово-Исаево. А пока до свидания. – Атаман подал руку.
У порога Мишку встретил офицерик.
– Вы были в командировке в Самаре с атаманом войска? – спросил он запальчиво.
Михаил нерешительно и неопределённо наклонил голову.
– Я вас знаю, я Красногорской станицы. Вы и ещё один форштадтский приглашали меня с собой в гости. Я тогда был старший урядник, а теперь за боевые отличия на фронтах произведён в прапорщики.
Мишка равнодушно заметил:
– Небольшая радость для отступления-то, а для поражения так просто опасно.
Прапорщик отрывисто попрощался и быстро вышел из кабинета.
Обозы нескончаемой вереницей тянулись по улицам Оренбурга, направляясь на восток, на большую дорогу в Орск. Ехали именитые люди города, ехали в повозках, пристроенных на санях, ехали с семьями, в одиночку. Шли обозы с оружием, обмундированием, шли возы из разных мастерских и заводов – везли оборудование и материалы так называемого, англичанского арсенала. На санях лежали кузнечные мехи, рядом торчали черенки молотков и кувалд, приваленные наковальнями, громоздились шкуры, выделанные на сыромять и шагрень[37]* для шорно-седельной мастерской.
Предполагали организовать мастерские в верхних станицах, так как отступать далеко никто не собирался.
2.
Михаила прикомандировали к обозам окружного правления, следующим вдоль железной дороги Оренбург–Орск, привязанной к реке Сакмаре станциями Гребени, Жёлтинская, Сары.
Орудийные раскаты, иногда пулемётная стрельба, доносившиеся со стороны станций Каргала и Майорские степи, сообщали панический страх беженцам-богатеям, всем недовольным советской властью или провинившимся перед ней.
Перегруженные поезда больше не вмещали в себя, в лютый холод люди ехали на крышах вагонов. Поезда больше стояли, чем шли: не хватало топлива, воды. Пассажиры сходили с поезда, собирали щиты для топки паровоза, лопатами забрасывали снег в тендер, мало-помалу двигались вперёд.
Проносился слух, что красные появились где-то с фланга или нападают с тыла, тогда поднимались крики и смятенье, плач женщин и детей. Люди бежали от вагонов, вернувшись, искали своё добро, которое не всегда оказывалось на своих местах или вовсе исчезло…
Кричали: «Куда едем? Зачем едем? Куда нас везут при таких беспорядках? Всё это виновато глупое начальство!» А сами все ехали и ехали дальше от дома, хотя никто не тянул, не посылал отступать… Везли жён, детей, вещи, бросив больше: скот, дом, имущество – всё, что трудами наживалось десятки лет.
Слепили бесконечные степи в саване морозного, скрипучего снега. Метель завывала заупокойными голосами, сбивала с дороги, облекала в холодную дремоту.
Всё впереди было чужое, неприветливое, не обещающее покоя и счастья. С каждым часом пути отступления всё более грозил призрак разлуки с родиной.
На пикетах не хватало квартир, в зимнюю стужу спали во дворах под одеждой не всегда тёплой – хорошая одежда была не у всех.
Не было фуража животным, они жалобно, с тоской взывали о помощи, с каждым днём худели, умирали. И людям не хватало продовольствия, ложились спать голодными, зная, что их ждёт голодное утро. Хлеб и мясо замерзали так, что при дележе их пилили пилой. Грызли, ломая зубы, мёрзлый хлеб, из дёсен текла кровь, обагряя кусок…
Русские люди бежали от русских людей, сеялась во все стороны жестокая смерть – народы России истребляли друг друга.
3.
Шестнадцатого января Оренбург заняли красные части. Фронтовая линия пролегла между ним и станицами Нежинской, Благословенной, Меновой двор, Павловской, Чернореченской. К северу от Оренбурга ещё стойко держались Имангулово, Исянгулово, Дедово-Исаево. Ещё севернее советские части вклинились до Кананикольского и Белорецкого заводов.
Почти без боёв сдав Оренбург, белые стали тотчас рваться к нему. На сотни вёрст по лесам Башкирии протянулся фронт, непрерывной вереницей он посылал убитых казаков для похорон в родных станицах. Хоронить их выходили все. Душераздирающий плач не умолкал по нескольку дней. Каждый думал, что завтра его очередь встречать своего близкого убитым, и каждый хоронил чужого, как родного мужа, отца, брата.
В марте по всему Оренбургскому войску пронеслось воплем: на реке Салмыш казакам изменили кустанайские части.
Чтобы отбросить красных на участок станции Общий Сырт и прервать железнодорожное сообщение Самара–Оренбург, белые перебросили через Салмыш, на западный берег, до двух батальонов пехоты кустанайского набора.
Как только пехота переправилась, полк казаков последовал за ней и высадился на западном берегу. Лёд, застрявший где-то выше переправы, прорвал брешь, и вставший было ледоход пошёл снова.
Кустанайским частям было приказано повести наступление в западном направлении от реки. Кустанайцы, наступая, дошли до цепи красных и без выстрелов, по договорённости, передались им. Соединившись с цепью противника, они обрушились на казаков.
Обескураженные казаки в панике бросались в реку с конями и без коней и тонули, сжатые льдинами или застреленные на воде с берега. Принявших бой на берегу там же и побили.
По всем станицам пронеслись проклятья кустанайцам за измену. Ещё более углубилась пропасть между казаками и неказаками. Даже богачам-мужикам, хотя они и состояли в рядах белых добровольцами, казаки перестали верить. Видя это, солдаты бросали оружие и уходили домой или переходили на сторону красных и тут же шли в наступление на белых.
Через несколько дней после падения Оренбурга линия фронта передвинулась к востоку, оставив на стороне красных войск станицу Благословенную. Её атаковали с юга, когда казачья кавалерия отошла на киргизскую территорию. Несколько часов станица находилась никем не занятой.
К двум часам дня в нескольких верстах появился усиленный наряд конной разведки. Группа конников продвигалась медленно. Жители вступали в спор: одни говорили, что это вернулись казаки, другие – что пришли красные. Наконец подъехавшие на полувинтовочный выстрел кавалеристы дали по станице залп, другой, третий. С пустых улиц им никто не отвечал, жители попрятались. Конная разведка, дождавшись подкрепления, приблизилась к станице, осторожно въехала в улицу.
4.
Михаил Веренцов отступал со множеством обозов на Орск и дальше, на Троицк. Нельзя было найти ни газет, ни депеш, из которых было бы видно положение на фронтах, под Оренбургом, в Благословенной. Слухи ходили самые разноречивые, нелепые.
Ехали по необозримым снежным полям. Зайцы, празднуя время любви, перебегали дорогу большими стаями. Иногда вдалеке пробегали волки и лисицы, в них стреляли от обоза из винтовок, но на выстрелы они не обращали внимания. Бриллиантами разливались снежные звёздочки на тёплом, мартовском солнце. Воздух – чистый, тепловато-сонливый днём и морозно-бодрящий ночью – делал небо тёмно-голубым. На севере иногда мелькали незнакомые вспышки Северного сияния, похожие на очень далёкие молнии.
Обоз окружного правления остановился на длинной улице огромной станицы Новоорской. По обеим сторонам улицы смотрели двухэтажные и полутораэтажные дома со множеством больших окон, завершённых полукруглыми верхними косяками и ажурно выпиленными цветными стёклышками – дома самой зажиточной части станицы, казаков. Хозяева их как будто специально заселяли эту улицу, чтобы жить рядом и беседовать о своих богатых делах. Теперь они вышли на улицу – с большими окладистыми бородами, подпоясанные голубыми кушаками сверх одежды. Папаха – с вшитыми голубыми верхушками. В талию пригнанная поддевка без боров[38] обнажала колени, где сверкал на брюках голубой широкий лампас. Молодых казаков не видно, они на белом фронте.
Казаки чинами и званиями пониже были посланы в улицы менее зажиточные, с меньшими домами, и расквартированы скученней. Михаил подъехал к дому местного середняка на второй улице от центра. Встречать квартирантов вышел пожилой хозяин, радушный весельчак и хлебосол из казаков. Он с шуткой обратился к приезжим, с ног до головы осмотрел Михаила и его товарищей. На вопрос о фамилии ответил: «Болодурин».
Быстро надвигались сумерки, морозной мглой окутывали станицу. Далёкая от фронта Новоорская была далеко и от событий конца семнадцатого и восемнадцатого годов. Здесь жили ещё мирной, не тронутой ни войной, ни революцией жизнью. Приближение фронта мало действовало на жителей – они не знали, что такое район военных действий. Где-то была буря, сумрачно висели тучи, грохала гроза, а здесь были солнце, ясная погода. Никто здесь не представлял, что война – это обжорство, воровство, грабёж, насилие, реквизиции, пожары, смерть. Не думали жители этих мест, что им придётся вынести на своих плечах всё, что не пришлось вынести ни западной, ни центральной России с четырнадцатого по семнадцатый год.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1.
Небывало крепкие морозы зимы 1919 года держались до середины марта. До этого времени солнечные дни были не теплее прозрачных морозных ночей. Продвигающиеся по станицам к Троицку нескончаемые обозы отступающих белогвардейских частей и беженцев толкли разбитый снег на столбовой дороге Орск–Троицк, выдалбливая огромные ухабы и опасные для тяжёлых возов раскаты. В ухабах застревали возы, их не в состоянии были вытащить обессилевшие кони. Застрявшие задерживали задних, те объезжали сбоку и сами застревали в мягком снегу. Люди топтались около возов, тащили их, помогая коням, обессилев, с руганью выбрасывали часть груза на снег, ехали дальше. Опять застревали и опять выбрасывали.
Вещи подбирали едущие сзади, потом и новые хозяева выбрасывали их вместе со своими вещами – кони не тянули.
Бросали обессилевших коней, быков, коров, в степи их никто не покупал, как не покупали одежду, обувь, ценные вещи.
Огромная станица Ключевская на приподнятой северной стороне речки Увельки увиделась сразу уже версты за три. Мишка подъехал к большому недостроенному дому с жилым домиком во дворе. Хозяйка, местная казачка, рассудительная Евдокия Макаровна встретила новых квартирантов радушно. На вопрос: «Где же ваши мужчины?» ответила:
– Сын воюет за Дутова, а отца посадил в тюрьму тот же Дутов, – делая ударение на последнем слове. Веренцов поморщился.
Все дни, что жили они в этом доме, Мишка не мог найти верного тона с его обитателями. Всякий разговор обязательно комкался. Миловидная, взятая из Троицка сноха, жена сына, воюющего на фронте, вообще казалась Мишке враждебной к казакам, её он попросту ненавидел. Он чувствовал, что вся семья считает его ярым приверженцем Дутова, жестоким и опасным. При нём женщины не разговаривали, тем более о политике. Скрытность хозяев усиливала неприязнь, подозрения, желание перебраться на другую квартиру.
Из печати белых было видно, что они снова стоят под стенами Оренбурга, и Благословенная в их руках.
Центральная часть Колчаковского фронта, снова наступающая по Сибирской магистрали, достигла станции Абдулино, севернее бои шли между Екатеринбургом и Нижним Тагилом, но где точно, газеты не сообщали.
В большом станичном доме Потапова оборудовали кузнечно-слесарную и деревообделочную мастерскую. Готовили ленчики[39] для сёдел, копья для деревянных пик и сами пики – всё в таком примитивном виде, что смешно было смотреть: пики кривые, в сучках, ленчики сваливались с коня, в один день портили коню спину – после нельзя было седлать…
В мастерскую, где работал Мишка, вошёл её заведующий инженер Бобров, спросил:
– Кто здесь Веренцов?
Мишка взял под козырёк, отзываясь. Бобров подал руку:
– Я сейчас разговаривал с вашим братом по телефону из станичного правления, идите скорее туда, он вас ждёт у телефона в Троицке.
Мишка побежал в станичное правление.
На втором этаже громоздкого станичного дома в тесной комнате за большим столом сидел атаман станицы Ключевской, окладистая борода его пестрела проседью. В сторону Мишки он бросил уничтожающий взгляд:
– Кто такой? Откуда?
– Меня вызывает к вашему телефону брат из Троицка, офицер Веренцов, – Мишка взял руки по швам. Атаман встал, широко улыбнулся, подошёл к телефону, снял трубку, подавая Мишке:
– Казачий офицер ваш брат, да? – Мишка кивнул.
В трубке уже слышался знакомый голос брата. Слёзы радости навернулись на глаза. Мишка первый раз в жизни говорил по телефону.
– Миша, это ты? Ну говори же скорей! Я ведь давно жду тебя здесь.
Дмитрий сказал Мишке, что он в троицком военном лазарете, по какой причине, узнаешь, мол, как приедешь, и просил поторопиться, так как на днях он должен выехать на фронт.
Вернувшись на квартиру, Мишка рассказал друзьям о разговоре с братом, о необходимости как-то попасть в город. Неожиданно выручила хозяйка: завтра она собирается ехать туда на своей лошади и возьмёт с собой Веренцова.
На другой день после нескольких часов тряски их лошадь, впряжённая в крестьянский тарантас, остановилась у подъезда троицкого лазарета. Из его дверей и обратно сновали медицинские сёстры. Одну из них Мишка задержал:
– Скажите, пожалуйста, сестра, – спросил он, – у вас не находится на излечении казачий офицер Веренцов?
Та недоумённо посмотрела на незнакомого:
– Обождите минуточку, я проверю, что-то не помню, – ответила она и скрылась в дверях. Мишка нетерпеливо ходил от тарантаса до подъезда и обратно.
Мишкина хозяйка, помирившись за дорогу с Веренцовым, в котором теперь не видела врага, а лишь ярого защитника казачества, с откровенным любопытством ждала встречи братьев.
В дверях лазарета появился Дмитрий. Он был слегка бледен, будто помолодевший с последнего свидания в декабре. На нём был белый халат, наброшенный на гимнастёрку с погонами, и брюки с лампасами, сапоги. Он больше походил на посетителя, чем на больного. Быстро сбежав по ступенькам подъезда, Дмитрий порывисто обнял Мишку. Братья крепко расцеловались.
Дмитрий отвесил низкий поклон хозяйке Михаила. Евдокия Макаровна в ответ предложила братьям для свидания квартиру своих родственников, нужно только показать её Михаилу. Дмитрий согласился, с условием, что тот быстро вернётся. И Мишка с хозяйкой уехали.
Дмитрий долго махал вслед поднятой рукой, как будто отгонял от них злые силы…
2.
Братья сидели рядом за столом, прижавшись друг к другу. Мишка не выпускал руку брата, будто боялся, что тот может уйти навсегда. Дмитрий запальчиво вполголоса говорил о положении на фронтах, о политике, об отношениях белого командования к солдатам и казакам… Под предлогом покурить они вышли из-за стола и сели отдельно, чтобы никто не мешал.
– Ну что ты, Митя, – не соглашался Мишка, – как можно жаловаться на положение на фронтах, если наши разведки не могут столкнуться с противником, так стремительно он отступает.
– Нет, Миша, я определённо знаю, в каком положении мы окажемся через тройку месяцев. Мы будем отступать, несмотря на местные удачи. Будем отступать далеко, может быть, вглубь Сибири, может, до Китая. Казаки, я не говорю уже о солдатах, не знают, за что они воюют, а внушить им никто и не думает. Даже офицеры спрашивают себя: «А что же будет, когда побьём большевиков?» Агитационных отделов нет, а где они есть – бездействуют. Наши пустые верхи продолжают думать, что они воюют с иностранным врагом, а не с русскими, с которыми надо воевать умеючи. Чинопочитание, отдание чести у нас свило смердящее гнездо. Выбивает из головы охоту бороться за того, кто заставляет тянуться перед собой. В такой критический момент… каждая минута дорога, чтобы её использовать на обучение рядовых владеть оружием, нападать, защищаться, а у нас стараются обучить правильно тянуться перед чинами. В гражданской войне победит тот, кто сумеет доказать массе, что он борется за счастливое будущее народа, за свободный труд.
Вот большевики превзошли нас во многом. Они долбят и долбят каждому, что они за свободу слова, за свободу печати, за свободу религии, за свободу собраний и демонстраций, даже за свободу действий, если они не вредят другому, за неприкосновенность личности, национализацию земель помещиков, фабрик, заводов, банков. Всё, мол, это они отдадут народу. Вот так они говорят народу. Дадут они потом или не дадут, это дело другое, но по крайней мере обещают. И правильно делают, а наши – дураки, остолопы, не знают политики, так и не лезли бы воевать. Александр Ильич Дутов не глупый генерал, а вот не умеет держать народ в руках путём внушения и агитации. Он действует всё приказами да репрессиями, а поэтому и боятся Дутова, бегут от него в разные стороны, как мыши.
– Скажи, Митя, – прервал Мишка, – где сейчас проходит фронт под Оренбургом, у кого наша станица?
– Она несколько раз переходила из рук в руки, а теперь окончательно оставлена нашими. Казаки отошли к третьему аулу, – ответил Дмитрий. – Я не могу спокойно спать, спокойно смотреть в тарелку, спокойно говорить, когда думаю об этом, я уверен, отца нашего уже нет в живых, большевики его погубили, мы его не увидим больше никогда. А что он не уехал отступать, то я знал и раньше, что он не поедет. Это ведь исключительно невозмутимый человек. Он сам никогда ни на кого не нападает, но если на него навести дуло винтовки или револьвера, то он так и умрёт, не моргнув глазом. Вот я вижу у тебя слёзы, а я их лью по ночам. По ночам плачу, чтобы никто не видел, мне стыдно, но сердце не терпит, – он замолчал.
– Митя, а что, если бы сейчас тебе сказали: «Хочешь, чтобы отец был жив, перейди к красным». Что бы ты сделал?
– Что ты болтаешь? Ты с ума сошёл? – широко открыв глаза, сказал Дмитрий. – Разве можно считаться с одним человеком, хотя бы с отцом, с братом, с сыном, с кем угодно! Я никогда не покину своих, не перейду к врагу. В борьбе за идею нужно ставить на карту всё…и жизнь… – тогда победа будет обеспечена. А придётся погибнуть, всё-таки это отрадней подчинения. За это не осудит история, не осудит поколение. Правы мы в борьбе с большевиками или нет, – это другое дело, но в каких рядах сражаешься, за те ряды и стой: побеждай или умирай, иначе ты – презренный трус или изменник.
– Митя, а вот если бы я перешёл к красным и попал бы тебе в плен, неужели ты расстрелял бы меня? – спросил Мишка.
– Чужому всадил бы одну, максимум две пули, а тебе всадил бы пять или изрубил бы шашкой, – отчеканил Дмитрий.
– Так вот как, оказывается, нужно смотреть на борьбу, – задумчиво растягивая слова, как бы сам себе сказал Мишка.
– Да, именно так. С кем встретишься, в того и превращайся: с другом встретишься – в друга превратись, с врагом – во врага, со зверем – в зверя, с учёным – в учёного, с неграмотным – в неграмотного, с маленьким – в маленького. Только в женщину не превращайся – проиграешь, она победит… Ты должен быть выкован и закалён, как наши предки… Ермак, Разин, Пугачёв. Умри таким – и тебе будет честь и хвала. А будешь трусом и малодушным, тоже умрёшь, пожалуй, и скорее, но с позором. Вот тебе моё братское напутствие. Я знаю, ты не отстанешь от меня по натуре, может, даже пойдёшь вперёд – далеко. Я за тебя спокоен, не то что за Петра… Да, браток, – помолчав, продолжал Дмитрий, – многому тебя ещё надо учить, многому. Распознавать друзей и недругов, побеждать любого противника. Одного нужно победить, нападая на него, а другого – защищаясь от его нападения. Рубить шашкой нужно уметь обеими руками, перебрасывать шашку из одной руки в другую, когда обе конницы смешались в кучу… К пленным относись гуманно, к изменникам – жестоко, особенно теперь к изменникам-казакам, они нам значительно вреднее, чем неказаки. О пощаде для них не может быть и речи… В бою будь хладнокровен, не выскакивай вперёд, но не отставай и сзади не тащись.
– А какая власть будет, если победят белые? – спросил Мишка.
– А чёрт её знает, какая будет власть. Думаю, что будет то же, что и при царизме, а свобода, о которой нам так много пели, лопнет, как мыльный пузырь. Откровенно скажу, что все эти власти я бы испорол нагайкой и прогнал бы в три шеи, да не только у нас в России, а во всём мире, и сделал бы одно государство с одним правительством, с одним столичным городом, неважно, с каким: Петроградом, Берлином, Парижем, Лондоном, Вашингтоном или Константинополем, всё равно, лишь бы упразднить эти пятьдесят девять правительств с их министрами, знатью, миллионами бездельников-трутней. А в одном правлении нетрудно было бы внедрить один мировой язык, любой, какой признает человечество. Тогда каждый мог бы ехать в любой город мира и там жить и работать – там говорят на его языке, он там дома. Со временем скрасились бы все племена и народности, произошла бы метизация здоровых, красивых, умных людей. Самое главное – войны ушли бы в область предания, не было бы угрозы войн, не было бы надобности к ним готовиться. А на них ведь человечество тратит не меньше девяноста процентов всего своего труда.
– А какая же власть для этого государства была бы подходящей? – недоверчиво спросил Мишка.
– При всякой власти народ стал бы жить хорошо, лишь бы она была одна, но, разумеется, чтобы не было крупных богачей, захвативших себе всё, – ответил Дмитрий.
– А как же достигнуть этого, если добровольно ни одно правительство не пожелает сливаться в одно государство? – спросил Мишка.
– Только силой, только силой, и это будет со временем, я убеждён, – сказал Дмитрий. – О том, какая власть будет, если большевики будут побиты, сейчас спорят в Омском правительстве. Курицу не поймали, а уже щипают. На этой почве серьёзные трения между Колчаком и Дутовым. Колчак хочет подчинить себе Дутова, а тот обособляется. Вражда может дойти до стычек, чем, безусловно, воспользуются большевики, и мы проиграем. Эти олухи из Омска показывают пальцем на семиреченского атамана-самозванца Анненкова, вот у них козырь, но мы и сами можем сбить ему рога. Этот негодяй сместил атамана Ионова, бесчинствует по области и рядом, грабит, расстреливает и прочее. От этого террора всё неказачье население бежит в горы, организуется в отряды, воюет против нас. Вот с такими мерзавцами попробуйте добиться авторитета в своей борьбе. Казачишки, которые присягнули ему, чуть не молятся на него. Ну ясно, кому не понравится такой атаман, который разрешает мародёрство, грабёж и насилие? Не понятно этим дуракам, что роют яму себе и другим… Авторитет наш сильно поколеблен. Ставка Колчака кишит разным сбродом: шпионами, диверсантами, выскочками. А Колчак как ослеп, он хорош – командующий на море, а на суше он задохнулся, как рыба. Его противники свили у него за спиной гнездо… Вот почему я уверен, что у белых затишье перед смерчем… погибнут все.
В наружную дверь, с подъезда, постучали. Хозяйка вышла и возвратилась с незнакомым человеком без погонов, но в военной одежде. Незнакомец поздоровался со всеми, не подав никому руки. Видимо, присутствующие ему не были знакомы.
Дмитрий подошёл к незнакомцу, взял его за плечо, отошёл с ним к порогу. Пришедший что-то шептал Веренцову. Дмитрий быстро засобирался. Поблагодарив хозяев и извинившись за то, что оставляет компанию, Дмитрий подошёл к вставшему Мишке, с грустью и беспокойством смотревшему на брата. Сборы говорили о новой разлуке и, может быть, навсегда. Дмитрий вполголоса сказал, что его вызывают в штаб, где уже приготовлено назначение на фронт под Абдулино. Он обнял Мишку и крепко поцеловал. Незнакомый офицер тоже крепко пожал Мишке руку и зашагал к двери, кивнув головой Дмитрию. Тот приостановился, в упор смотрел прощальным взглядом на брата, потом зашагал к двери, бросив на ходу:
– Ещё месяц дам тебе отдохнуть, а потом приеду за тобой.
Как пригвождённый, стоял Мишка лицом к двери. Разлука с братом сжала сердце. Он знал, что Дмитрий скоро будет на позиции, откуда целыми и невредимыми возвращаются только по случайности. Кто вырвал у него из рук любимого брата? Кто не дал даже поговорить с ним, посидеть? Кто посылает его на смерть, чтобы больше, может быть, не увидеть никогда? Мишка бесцельно повернулся, как больной, подошёл к столу, и опустился на стул, невидяще глядя на присутствующих – он не слышал их разговора, а если и слышал, то не понимал. Он думал о брате. Как бы сейчас он пошёл с ним, пусть на фронт, но только с ним…
3.
В районе Кананикольских заводов шли упорные бои. Башкирия пылала в огне. Салмышская неудача белых, в результате которой они отошли чуть не до Верхнеуральска, была исправлена, и белые снова перебросили свои части на правый берег Салмыша.
Передвинувшийся снова к западу фронт змеёй лежал под самыми стенами восточной и южной окраин Оренбурга. Станица Благословенная была в руках белых. С фронтов беспрерывно везли убитых, чтобы похоронить их на родной земле, чтобы в последний раз родные насмотрелись на своего близкого и простились с ним навсегда. Стон стоял в вечерние и утренние зори. Вместе с петухами вставали несчастные осиротевшие, чтобы снова выливать горечь, смывать её горькими слезами, не дававшими уснуть всю ночь.
А убитые всё поступали и поступали. Большинство из них были изрублены. Как только возникал на каком-нибудь краю станицы, в какой-либо улице душераздирающий вопль, туда бежали со всех концов. Казаков, доставивших в родное село убитых, расспрашивали наперебой по нескольку человек сразу, задавали одни и те же вопросы о своих. Приезжие, привыкшие к смерти на каждом шагу, отшучивались: «Если не привезли, значит, живой, чего пристали?» Раненых было меньше, чем убитых – раненые добивались противником с обеих сторон.
Елена Степановна по целым дням не приходила домой, стояла на улице или во дворе, куда привозили убитого. Она беспрерывно вытирала глаза концом головного платка. Когда во дворе никого уже не оставалось, шла на окраину станицы смотреть на дорогу, по которой привозили убитых. Уже ночью приходила домой вся разбитая, страдающая, в слезах ложилась спать. Но сон к ней не шёл. Перед глазами стояли сыновья, она представляла их во всех возрастах с рождения и до последней разлуки. Ей виделись ужасы, какие теперь испытывают они на этой чудовищной бойне. Может быть, вот сейчас, в этот самый момент их, захваченных в плен, казнят, рубят или расстреливают, и там, где-то среди навозных куч или помойных ям и оврагов, останутся их тела, обезображенные и изуродованные, на съедение волкам, собакам и птицам…
Мать вытирала надоедливые слёзы, выходила во двор и долго сидела на огромном камне возле крыльца, положенном когда-то старшим сыном Митей. Её осенила надежда: Митя – начальник довольно большой казачьей части, и возможно, он находится сзади всех, а потому менее уязвим. Неужели он будет лезть вперёд?
Мысль переносилась на другой предмет горя: на среднего сына Петра. Тот в большей опасности, он не схитрит, не спрячется, полезет вперёд и там найдёт себе смерть под ужасными сабельными ударами или пробитый пулями. Петю матери как будто ещё больше жаль – кроткого, невозмутимого, во всю жизнь не причинившего никому никакого вреда, не сказавшего никому слова поперёк. Но сознание подсказывало, что он будет убит, там, на фронте не считаются с тем, виноват перед кем или не виноват, достаточно того, что попал в лагерь противника, значит, должен быть уничтожен.
«Неужели могут убить Митю? – думает мать. – Неужели хватит у них жестокости поднять руку на этого красавца, да ещё офицера? «Не укладывалась в голове Елены Степановны мысль, допускающая проявления злобы к её сыновьям. Она смотрела в сторону, откуда привозят убитых, прислушивалась к каждому малейшему шороху. Смотрела и слушала по ночам, когда во дворе ничего не видно и не слышно…
Созвездие Плеяд подходило к зениту. Первая звезда Персея показалась из-за соседнего сарая. Где-то далеко, на третьей улице громко зарыдала женщина, заголосила, как по мёртвому. Видимо, выла в доме, а теперь горе вывело во двор, и обходила подворье, изливала отчаянье животным, говорила им последний, горький привет от их хозяина, которого теперь не увидит никогда.
Во многих местах станицы, как и днём, жутко завыли собаки. Теперь они как будто вторили плачущей.
Призрак смерти, сиротства, нищеты, разлуки витал над станицей, каждый конский топот или стук колёс даже днём, не говоря о ночи, вызывал тревогу. Бросались к окнам или дверям, украдкой смотрели на улицу, стараясь остаться незамеченными.
От стен Оренбурга слышалась непрерывная ружейная и пулемётная стрельба, изредка ухали орудийные раскаты. Снаряды нередко рвались над станицей, оглушительно осыпая шрапнельными осколками железные крыши школы, церкви, станичного правления, других, ещё не сгоревших домов.
Елена Степановна ходила по двору с искажённым от горя лицом. Рыдающая женщина что-то причитала, её голос то замирал, то вновь нарастал, как будто она влезала на поветь сарая.
С противоположного конца станицы послышался конский топот аллюром, галоп. Режущий болью кольнуло в сердце. Топот быстро приближался, всё больше захватывая и сжимая сердце невидимыми тупыми клещами, в висках стучало, как молотком. В воображении пронеслось: «Или какой-нибудь из сынков скачет, или кто-нибудь скачет сообщить страшную весть, которая будет изъедать сердце и сушить тело до гробовой доски…». Топот уже в квартале расстояния перешёл с галопа на рысь, беспокойно и тяжело дышал конь.
Елена Степановна застыла в ожидании, она не чувствовала камня, на котором сидела, всё тело одеревенело, лёгкие не в состоянии перевести дух, как будто кровь остановилась в жилах, глаза в испуге остановились на одной точке, во рту мигом пересохло…
Вдруг топот коня стих. Но где же всадник? Почему не стучит в ворота?.. Через несколько мгновений раздался сильный стук через дом от Веренцовых. Как будто банным паром ударило в лицо Елены Степановны, пот выступил на лбу, катился по лицу крупными каплями. Слышно было, как открывались ворота соседей. Елена Степановна встала, по стенке, разбитая, пробиралась к своим воротам, ноги дрожали.
И нижняя звезда Персея засветилась из-за сарая, Меркурий выходил из-за горизонта. Вот-вот заря. Может, хоть солнце красное принесёт какое-нибудь утешение!..
Со двора соседей, куда подъехал неизвестный, вырвался жесточайший вопль. За ним второй, третий. Закричали на разные голоса дети. Голосившая до этого на третьей улице замолчала, видимо, прислушивалась к новому горю в очередном доме – и здесь рухнули устои всего.
Веренцова тихо вышла на улицу. Где-то на луговых озёрах монотонно ухали водяные бычки[40], вторили вою собак и душераздирающему плачу в соседнем дворе.
Елена Степановна дошла до ворот несчастного дома, долго стояла, не решаясь войти. Наконец ворота открылись сами, со двора выводил потную лошадь казак с другого конца станицы. Веренцова прижалась спиной к воротному полотну, чтобы не заметили, чтобы не услышать для себя чёрную весть. Казак увидел её, подошёл вплотную, растерянно поздоровался.
– Митрия ихнего сегодня убили в деревне Сангулово, – сказал он. – Да так и не удалось его вывезти убитого, остался большевикам.
Елена Степановна торопливо спросила:
– Ну, а наших чадушек-то не видел ли?
– Как не видеть, вместе были. Ваш Пётр с Митрием скакал по улице. Митрия-то убили прямо рядом с Петром. На рассвете мы пошли наступать на Сангулово. Когда заскочили в село, красные стали хлестать нас из каждого окна и с каждого двора. А когда проскочили на площадь, то у них там оказались и пулемёты. В общем, человек двадцать наших там осталось убитых и раненых.
Елена Степановна тряслась, как в лихорадке, она не могла стоять, держалась за воротное полотно и скобу. Со двора вышла мать убитого, направлялась оповестить родных о несчастье или старалась излить горе, так безжалостно сдавившее сердце.
– Милая моя кумушка, – заголосила она, – несчастные мы, горемычные, не будет нам утешения до гроба, до могилушки, нет нашего соколика больше на свете, не увидим мы его больше никогда, он брошенный теперь, весь изрубленный, выклюют ему птицы ясные оченьки, – бессознательно тянула за руку на свой двор соседка растерявшуюся Веренцову.
Убитые горем матери шли по двору, держась друг за друга. Они одинаково проливали слёзы: одна, уже ощутившая боль от выстрела в неё, другая – ожидающая спуска курка, направленного на неё оружия, сознающая, что курок будет неминуемо спущен, только убийца медлил и медлил – тем мучительнее было ожидать удара. Дети матери и дети погибшего сына смешались в одну нераздельную семью, кричали, звали отца и брата.
4.
В смертоносной военной буре, нёсшейся с запада на восток, сметая всё на своём пути, кружились люди – их несло, как пылинки или сухие листья. Уничтожали друг друга с прежней силой и жестокостью. Количество жертв не снижалось, а вырастало.
На фронте красные кричали белым: «Эй, вы, господа, скоро пятки будете смазывать! Союзники вас бросили, им тоже не хочется вашей власти, а хочется советской. Переходите к нам, бросьте своего Колчака, он вас обманывает, он продался англичанам да японцам. Англичане уже в Баку приехали за карасином, а русских хотят заставить с лучинами сидеть по вечерам да нитки прясть… Эй, беляки, за офицерские погоны воюете. Погоны уж всем опротивели, их и за границей уже не носят, а вы за них дерётесь. Мы вашим пленным офицерам гвозди в погоны забиваем, сколько звёздочек в погоне, столько и гвоздей забиваем. Погоны отжили свой век, они должны умереть навечно!..»
Как ни пресекало белое командование братанье на фронте, оно случалось всё чаще. Участились переходы от белых к красным не только солдат, но и казаков. Правда, последние переходили реже – всё ещё носились слухи, что красные расстреливают сдавшихся казаков.
Северный, то есть Пермский участок фронта Колчака трещал, как и остальные, белые здесь стали отходить, хотя и бросали в дело отборные части Попеляева и сибирские полки, но они не могли удержать Ижевские дивизии красных.
Хотя провал колчаковского фронта, особенно его южных группировок – Уральской и Оренбургской – был неизбежен, однако в Омске, в ставке правителя Сибири, этому не хотели верить. Здесь жили самой беззаботной жизнью, спешили насладиться ею. Ослепляли залитые электрическим светом залы театров и собраний, сверкали, переливаясь мириадом огней, бриллианты Калифорнии, изумруды Колумбии, алмазы Южной Африки и старой Индии на обнажённых плечах дам. Тончайший запах духов Франции туманил головы, сбивал с пути здравый разум, столь необходимый в этот критический момент. В прихотливом переплетении праздных и деловых мыслей праздные привычно брали верх…
На фронте уральских казаков белые терпели поражение и отходили к Каспийскому морю. А в августе Оренбургский фронт передвинулся на восток до Орска. Актюбинская группировка белых теснилась к стенам Актюбинска со стороны Сагарчин-Мартук. Наспех сколоченную армию под командованием Галкина[41]. Колчак бросил на поддержку белых, защищающих направление Орск–Актюбинск. Но эта армия тут же развалилась и стала стремительно отступать по пустынным, песчаным дорогам на Иргиз и Тургай, увлекая за собой более стойкие части из оренбургских казаков. Откатываясь от Актюбинска на юго-восток по Ташкентской железной дороге, поток белых дошёл до станции Джурун и разделился надвое: одни продолжали отступать через Иргиз, Тургай на восток, другие пошли через Темир на Гурьев.
По топким, песчаным дорогам и бездорожью Тургайской области тянулись в несколько рядов бесчисленные обозы на конях, верблюдах, быках. Животные еле тащили возы, останавливались, падали, гибли. Бросалось добро, люди шли пешие, умирали от голода, а больше от жажды. Автомашины, мотоциклы, велосипеды, брошенные, лежали на дорогах – по мелкому, сыпучему песку на них нельзя было ехать.
Переход к красным целыми частями, даже казачьими, уже не казался новостью. После сдачи Актюбинска и Орска всем стало ясно, что белая армия разваливается и окончательное её уничтожение неизбежно. Громовым ударом подействовал на казаков переход к красным недалеко от Актюбинска казачьих отрядов Богданова и Шеина. Теперь уже не верили офицерам, уверявшим, что красные расстреливают не только сдавшихся командиров, но и рядовых казаков. Более трезво настроенные офицеры, обеспокоенные положением белой армии, уже не могли остановить катастрофы.
Лишь части, отходившие от Орска и Троицка через Кустанайскую область на территорию Сибирского казачества, не ощущали общего недостатка в транспорте и снабжении, потому что отступали по хорошим дорогам и населённым местам. Сохранив боеспособность, они в ряде пунктов: Щучинской, Семиозёрной и других – оказывали энергичное сопротивление наседавшим красноармейским частям, замедляя стремительное продвижение противника по Сибирской магистрали Челябинск–Курган–Петропавловск–Омск. Но как будто уже витало в воздухе, что это начало полного разгрома. И с каждой новой неудачей белых поднимались боевой дух и авторитет их противника.
5.
Отступая через станицу Ильинскую на Актюбинск, Джурун, Тургай, Мишка вынужден был снова сесть на коня и зачислиться в войсковую часть, с которой и вступил в город Тургай. Не только его лачуги и дворы были забиты войсками, нельзя было проехать и по улицам. Галкинская армия, балласт белых, всё пожирала на своём пути, как саранча, загромождала все ночлеги и пикеты. Отражать наступление противника она не могла из-за полной дезорганизованности и отсутствия командного состава. Это была не армия, а огромная толпа без цели и надобности, питаемая из скудных, всё более дорожающих запасов.
Сзади своей сотни Михаил Веренцов с погонами вахмистра проезжал по широкой, пыльной улице захолустного, заброшенного в пустынной степи Тургая, своими землянками похожего скорее на аул, чем на посёлок, тем более на город.
Томил жаркий, безоблачный сентябрь девятнадцатого года. После выжженных солнцем степей, безводных, необитаемых пустынь даже эти грязные жилища поманили миражом отдыха. Сотню встретили квартирьеры, указали на две землянки с обширными дворами.
Из глубины пересекающей улицы Михаил услышал голос, назвавший его имя. От большой толпы офицеров отделился верховой и во весь карьер скакал к Веренцову. По его загоревшему до черноты лицу, обросшему бородой, изменившейся, когда-то грациозной посадке Мишка не сразу узнал в измученном, угрюмо-печальном кавалеристе брата Дмитрия.
– Здравствуй, Миша! – кричал на скаку Дмитрий. – Да ты совсем уже мужчина! Не понимаю, как узнал – просто потянуло к тебе!
Не сходя с коней, братья крепко обнялись и ещё крепче расцеловались трижды. Дмитрий, жёстко улыбаясь, ткнул пальцем в погон брата:
– Поздравляю. Если так будешь шагать, не пройдёт и пары лет – ты меня на лопатки положишь. Рад за тебя, очень рад, горжусь.
Михаил застенчиво, принуждённо улыбнулся, безнадёжно махнул рукой. Выражение лица говорило: «Э-э-э, всё это чепуха, которая так же бесследно и бесславно исчезнет, как и появилась… А если и оставит след, то только на горе самому себе…»
– Ну рассказывай, как живёшь, как воюешь и прочее, – спросил старший брат, выпрыгнув из седла.
Михаил последовал его примеру.
Они повели коней в поводу по улице к штабу полка, в котором стоял подъесаул Веренцов.
– Да так себе, потихоньку, – задумчиво ответил Михаил. – Хотя и жаль, но изумляюсь правдивости твоих слов, помнишь, в начале весны в Троицке – о неизбежности нашего отступления… Вот теперь и бежим кто куда. – Дмитрий грустно молчал. Разговор прервался, как будто не о чем было говорить, как будто ни у одного из них не прошло ничего перед глазами за пять месяцев. Всё, что потрясло их, чем необходимо было поделиться друг с другом, всё поглотилось нарастанием катастрофы, новыми кошмарами последнего времени. Это всё не выходило из головы, рвало нервы…
Они вошли во двор, в глубине которого в небелёной киргизской землянке помещался штаб полка, на что указывал трёхцветный флаг, реющий над дверью. В землянке без стола и стульев на разостланных кошмах лежали и полусидели шестеро офицеров разных возрастов. Один из них с погонами полковника – ниже среднего роста, непропорционально толстой с миловидным лицом и чёрными сверлящими глазками – приподнялся на локте, внимательной улыбкой встречая вошедших. Дмитрий церемонно познакомил брата со всеми офицерами. Полковник окинул всех взглядом.
– Господа, я сквозь дверь узнал, что это Митькин брат, – сказал он. – Обратите внимание, какое сходство, чёрт возьми. Митя может гордиться. Сажай, сажай гостя на почётное место.
Мишка привалился на локоть рядом с братом на полу, с любопытством всматриваясь в каждого офицера. Те группами разговаривали друг с другом. Русый моложавый есаул продолжил, видимо, начатое раньше:
– Ну и вот, господа, о Государе Императоре…
Трое офицеров разом встрепенулись:
– Расскажи, Глеб, а то ходят нелепые сказки.
– Вот какую версию я услышал, – продолжал есаул. – Перед падением Временного правительства Государь с Семьёй и приближёнными был направлен специальным поездом за границу через Дальний Восток и Японию. Поезд шёл через Пермь, Екатеринбург, Челябинск, Иркутск… В это время власть взяли Советы. Большевики передали депешу в Екатеринбург, чтобы там задержали поезд и взяли Государя с Семьёй под домашний арест. До особого распоряжения. Поезд вернули в Екатеринбург уже из Иркутска, куда он успел дойти. Заметьте, поезд шёл инкогнито! В Екатеринбурге Государь с Государыней, Наследником Царевичем и Великими княжнами были водворены в дом купца Ипатова, где их содержали до мая восемнадцатого года.
– Я слышал о доме Ипатьевых, а не Ипатова, – усомнился один из офицеров. – Если это так, то тут есть жутковатое совпадение: на царство Романовы избирались в Ипатьевском монастыре.
– Может, Ипатьева, – согласился рассказчик. – В это время на Сибирской магистрали восстали чехословаки. Они заняли Челябинск, другие города, осадили Екатеринбург. Губернская Чека сообщила своему правительству о тяжёлом положении города и просила дать указания: что делать с Царём и Царской Семьёй, если город придётся сдать. Правительство красных, якобы, дало право екатеринбургской Чека разрешить вопрос о пленных самостоятельно. И вот, когда Екатеринбург начали бомбить, чехословаки заняли некоторые окраины города, Губчека вынесла приговор о расстреле. В два часа ночи в покои Царя вошли трое во главе с председателем Чека и попросили всех ввиду бомбардировки города сойти из бельэтажа вниз, в подвальное помещение как более безопасное. Государь, его Семья и близкие – одиннадцать человек – сошли в подвал. Их поставили к перегородке из толстых досок, трое вынули маузеры, зачитали приговор и в упор стали расстреливать. Некоторые ещё во время прочтения приговора в обмороке падали, их расстреливали на полу. Тела казнённых красные спрятали, а позднее сожгли, чтобы их не нашли чехословаки и не использовали как вещественное доказательство.
Чехословаки, вступив в город, тут же предприняли розыски Царя и Царской Семьи, чтобы освободить и вывезти за границу, но всё уже было кончено. Тогда из стены и пола выпилили куски досок с пулевыми отверстиями и отправили за границу. Достоверно это или нет, не могу утверждать, но, по крайней мере, так рассказывали.
– Что-то тут не совсем так, – сказал полковник, с силой хлопнув ладонью по колену. – А… впрочем, потеряв голову, по волосам плакать… – Остальные оцепенело молчали.
Мишка дослушал до конца. У него всё перемешалось в голове. Он спешил и попросил брата проводить его до ворот. Они вышли на улицу, постояли молча, продлевая минуты вдвоём, крепко расцеловались и разошлись. Оба вытирали слёзы. Это было их последнее прощание…
6.
По улицам на разные голоса скрипели фургонные и тележные колёса проезжающих беженцев, изредка громыхали патронные двуколки – их чудом провезли по мягким, как перина, дорогам через сыпучие пески Тургая.
Вперемежку с обозами брели загорелые, обросшие, голодные люди. Жители уходили от наступающих красноармейцев, вышедших из тех же, что и они, городов, станиц, сёл, хуторов, нередко состоящих в родстве с теми, кто бежал из страха быть захваченным родственниками. Страх плодила паника, искажая факты, усиливая слухи о зверствах большевиков.
Обгоняя телеги и фургоны, бесшумно, совиным полётом неслась легковая машина, разрезая фарами тьму октябрьской ночи. От полноты казавшийся неуклюжим, хитрыми, бесстрашно-прищуренными глазками смотрел сквозь дверцы машины в тёмное пространство атаман Оренбургского казачьего войска генерал Дутов. Отвалясь на мягкое сиденье, он разрабатывал план уничтожения брата по сословию, друга по убеждениям, врага по действиям – атамана Семиреченского войска Бориса Анненкова, назвавшего себя генералом.
План зрел в таком виде: разгром и уничтожение Анненкова должны были осуществиться внезапным ударом карательной экспедиции из трёх групп. Одна – со стороны Барнаула – должна пройти севернее Сергиополя на Учарал; вторая – со стороны Каркаралинска – через Сергиополь на Лепсинск; и третья группа – южнее Каркаралинска – глубоким рейдом, не доходя до Верного[42], повернёт на Капал и атакует атамана.
Дутов не любил советоваться. Созревавшие у него планы, видоизменяясь, иногда перерождались в свою противоположность или исключались совсем, не проходя в штабных документах. И на этот раз атаман не изменил себе, по дороге к Каркаралинску готовя нападение на отряды Анненкова.
Между тем армия Дутова, как и армия Колчака, катастрофически таяла. Её раздёргивали массовые переходы на сторону советских войск и возвратный тиф, без всякого сопротивления медицины выкашивающий целые полки. Невидимый враг сводил в могилу сотни тысяч людей. Некому было нести наряды, некому кормить коней, и животные гибли вслед за своими хозяевами.
По глухим, голодным степям Киргизии в жестокие декабрьские морозы еле двигались обозы, переполненные больными в казачьей форме. Подвода вдруг останавливалась в поле – некому было понукать лошадей. Животные понуро стояли, тряслись от холода, падали и замерзали, не в силах тянуть повозки мёртвых.
На пикетах-стоянках стоны больных смешивались с просьбами о помощи, о воде, хлебе, с гомерическим хохотом сошедших с ума. В беспамятстве лезли друг на друга, дрались или целовались, представляя перед собой врага или друга. Иногда били или целовали скончавшегося соседа. Другие выбегали нагими на мороз, кидались в снег, плыли по снегу, как по воде, размахивая руками и замерзая. Перед кошмарами наяву отступал и рассудок, чудом оставшийся здоровым.
Белая армия бежала от наседающих на неё красных частей. Отчаяние то и дело бросало белых в контратаки. В боях местного значения они даже добивались успехов, всё больше ослабляя самих себя.
Белое воинство – остатки разбитого русского самодержавия – откатывалось по Киргизии, сталкиваясь кроме всего с глухим недружелюбием, а то и с прямой враждой местного населения.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1.
Станица Благословенная жила послефронтовой жизнью. Следы боёв, нищеты, смерти и сиротства виделись всюду. Почти не осталось мужчин, кроме дряхлых стариков и малых подростков. Дворы опустели. Скот без хозяев голодал, ревел – его захватывала общая беда. Убитых уже не привозили домой для похорон, о погибших порой сообщали чудом уцелевшие, вернувшиеся из отступления служивые и беженцы.
Опустел и двор Веренцовых, наводил щемящую тоску. Уже и солнце заливало его без блеска, как в былые годы. В бедняцком хозяйстве недостаток чувствовался во всём.
Степан Андреевич ходил по двору, снедаемый тоской по сынам. Счастье и богатство семьи увезли они, чтобы похоронить вместе с собой где-то далеко в пустынях Азии. Степану Андреевичу чудились тени сыновей, слышался их голос по ночам с дальних улиц. Он знал, что это обман слуха, не говоря никому ни слова, приходил в избу, ложился в слезах и не мог уснуть до утра.
Елена Степановна постарела, похудела. Днём и ночью она бессвязно шептала молитвы и имена сыновей, вытирая слёзы. Всё валилось из рук. Мать как будто знала: участь сыновей умереть от тифа или пули их не минует, но долго ли ещё страдать в ожидании? Ведь ожидание мучительней самого удара. Известия о сыновьях приходили тем реже, чем дальше уходили белые в глубину Сибири и Казахстана. А с наступлением зимы донеслись слухи о массовом вымирании белых от тифа.
Возвратившиеся казаки приносили подробности о гибели сельчан, множились в поминальных книжках имена усопших, их читали на литургии, жутко объединяя плач молящихся близких.
Декабрьские ночи дышали сильными морозами – резкими, сухими. На желтовато-белом, освещённом луной снегу призрачно выделялись чёрные, обгорелые пни на пустырях сгоревших домов, они вселяли ужас, похожие на скелеты мертвецов, и пугали не только людей, но и животных.
В дикой пурге вокруг обгорелых домов терялся, западал, уносился куда-то плач и стон по новым бедам.
Давно уже не было слышно о братьях Веренцовых. Правда, изредка приносили сельчане сведения о Петре, находившемся с ними. О Дмитрии и Михаиле никто ничего не знал.
2.
Нескончаемые вереницы обозов отступающих тянулись по территории Семиреченского казачества. Дутовские части стали сливаться с частями Анненкова. Во многих местах происходили стычки «оренбургцев» с «семиреками», ослабляя и без того слабые части.
По сибирской магистрали колчаковский фронт разрозненными группами подвигался уже к Ново-Николаевску. Северная группа белых под командованием генерала Пепеляева отступала в глубинах тайги, не приближаясь к железной дороге, далеко впереди занятой восставшими рабочими.
Смутно бродили слухи о том, что Колчак где-то захвачен и казнён, но где и кем, никто не знал.
Уже с первых столкновений в январе-феврале восемнадцатого года, показавших слабость белого командования, в красном стане зрела уверенность в победе над Дутовым, а позднее – над Колчаком.
Осень девятнадцатого дышала холодом. Морозы по ночам и утрам сменялись затяжными дождями, превращающими землю в сплошное болото. Обледеневшее небо не пропускало солнечных лучей на землю – нечем было обсушить и согреть её. Сырость вызывала простудные болезни. Жались в сараи, жалобно кричали животные, словно просили о помощи, как будто знали, что зима настаёт холодная и голодная, птица вся побита, много скота порезано, а уцелевшие от ножа вряд ли уйдут от него до весны.
Опустошённые войной прифронтовые сёла не могли прокормить всей армады войск и беженцев, ежечасно обращающихся за помощью к жителям. Манёвренная, полевая война не могла обеспечить эту массу людей даже транспортом, не только продовольствием, поэтому на позиции нередко наставали совершенно голодные дни. Недоедание переходило в голод, голод открывал дорогу тифу.
Перед нескончаемыми обозами колчаковской армии и беженцами распростёрся придавленный к земле, обиженный природой, голый и бедный, с глиняными лачугами, набитыми нищетой, скорее убогий посёлок, чем город – Сергиополь.
К приходу дутовских войск он почти опустел, в нём осталось не более половины жителей. Остальные разбежались в горы и глушь Киргизии. Оставшиеся чувствовали себя как на бочке с порохом, но напрасно они боялись дутовских войск – войска потеряли боеспособность. Дутовские части приехали не верхом на конях, а в бричках, навалом до двадцати-тридцати человек на каждой. Не все пассажиры этих повозок доехали до ночёвки живыми. «Гости» Сергиополя привезли около сотни умерших на последнем перегоне.
На вопросы о еде и фураже никто не мог ответить – жители сами готовились к голодной смерти.
Чужие люди окружали Михаила Веренцова. Часть, в которой он состоял, сформировали из казаков верхних станиц Оренбургского войска. Мишка ничего не слышал о своих станичниках, те не знали о нём. О Дмитрии Веренцове были разговоры, что он где-то командует полком, другие говорили – дивизией, третьи – что он убит. Полагали даже, что он уехал делегатом в Японию или к красным, к своему другу Каширину, что-то в этом роде…
Михаилу с тремя казаками было поручено вернуться далеко назад по пути отступления и направлять отставшие обозы.
В оставленных белыми населённых пунктах немало местных жителей скрывалось от колчаковской мобилизации, были и дезертировавшие из белых частей. Некоторые сёла уже управлялись Советами, хотя советских частей здесь ещё не было. С удивлением смотрели здесь на вновь появившихся кавалеристов с голубыми погонами. Одни спешили в дом, другие бежали к соседям с новостью о возвращении белых, третьи презрительно провожали глазами казаков – им нужно было поскорее убираться из этих мест, чтобы не быть застреленными со дворов местными большевиками.
Казаки с Михаилом так задержались здесь, что уже не было видно ни обозов, ни войсковых частей. Тогда они заметили опасность, в одну ночь сделали шестьдесят вёрст, догоняя своих: свои обозы, свои войска, свои погоны.
В большом посёлке Кийма Атбасарского уезда Мишка увидел реющее трёхцветное знамя какого-то казачьего полка. По улицам сновали пешие и конные – оренбургские казаки.
– Скажите, пожалуйста, – обратился Веренцов к казаку, – какого полка этот штаб?
Казак взял под козырёк и отрывисто ответил. Веренцов подъехал к крыльцу, выпрыгнул из седла. Створки дверей растворились, вышедший офицер в упор посмотрев на Мишку, взял под козырёк:
– Вы не родственник Дмитрию Степановичу Веренцову, который недавно был в нашем полку?
– Да, я его брат, – сказал Михаил. – А разве теперь нет Дмитрия в вашем полку?
– Да нет, – ответил тот. – Он до сих пор не вернулся из какой-то секретной командировки.
– А дома ли командир вашего полка? – спросил Мишка.
– Да, командир в помещении, зайдите.
Мишка бросил повод коня на луку, быстро вбежал по ступенькам в коридор.
Он рванул дверь, широко открыв её. Непропорционально тучный, миловидный, с маленькими глазками, уже знакомый Михаилу командир полка сидел на оставленном на полу седле, беседуя с офицерами. Все повернули головы в сторону двери и замолчали. Стоя на пороге, Михаил подавленно взял под козырёк:
– Здравия желаю…
Командир полка тяжело встал, с опущенными глазами пошёл навстречу. Он узнал вошедшего – бросалось в глаза общее между братьями, запомнил его с того дня в Тургае, когда Дмитрий Степанович знакомил брата с офицерами штаба полка.
– Здравствуй, здравствуй, Веренцов! Давай, проходи вперёд. Погорюй с нами. – Он подал Михаилу руку и, не отпуская, повёл с собой.
Вставшие со своих мест офицеры, поддаваясь настроению старшего, мерили взглядами молодого, с искажённо-окаменелым лицом военного.
Командир полка провёл Михаила мимо них, усадил на большие нары и остался стоять рядом, положив руку на плечо гостя:
– Три недели ждём Дмитрия Степановича… А его нет и нет. Ни о нём, ни о его команде – никакого слуха. Нехорошо на сердце… даже… плакать хочется… – говоривший шумно и как-то по-детски обиженно потянул воздух носом. – Ведь он какой? Либо добыть, либо назад не быть! Об этом не только я скажу, это мнение и господ офицеров, и верхов войска, и даже… самого Александра Ильича, – командир полка теперь уже неожиданно крепко сжимал Мишкино плечо, как будто удерживая его от чего или успокаивая его. – Да… Но не будем отчаиваться… Может, Дмитрий Степанович скоро будет с нами. Не может быть, что он погиб. Не для этого такие приходят! – Командир взглянул наконец в лицо Михаилу – по щекам того катились слёзы, он не вытирал их, не сознавая этого, думая о своём и не слушая, что говорил командир полка…
Давно уже Мишка видел опустошающе недобрые сны, из которых заключал, что с братом он больше не встретится. Но кто из них первым уйдёт в землю, из снов понять не мог.
3.
Дни катились за днями. Под натиском красных частей откатывалась на восток белая армия. Кровопролитные контратаки на территории Сибирского казачества, в Кустанайской, Акмолинской, Актюбинской и других областях не оказывали влияния на ход событий. В результате стычек из строя выводился последний боеспособный состав, который не успел ещё уничтожить тиф.
Вступив на территорию Семиреченского казачьего войска, части Оренбургской группы белых направились к китайской границе по двум дорогам: одна колонна пошла с Сергиополя на Бахты, другая – южнее Сергиополя через Лепсинск, Учарал на Джаркент. Бахтынскую колонну возглавлял генерал Бакич, Джаркентскую – генерал, атаман Дутов. Два командира южного колчаковского крыла, не сказав друг другу ни слова о своих планах и намерениях, разошлись в разные стороны.
В степи погребально на разные голоса завывала вьюга… Об ушедших в отступление бродили разные слухи: что не успевшие умереть от тифа захвачены в плен и расстреляны; то – нет, не расстреляны, а сосланы на каторгу и работают в рудниках; что белые объединились с красными и воюют вместе против какого-то общего врага.
На самом же деле приказом командующего войсками Восточного, Туркестанского и Южного фронтов Фрунзе взятые в плен рядовые казаки освобождались от всякого наказания и могли даже поступать в военные школы. Когда казаки попадали в плен – здоровыми или больными, не каждая красноармейская часть нуждалась в пополнении и обузу попросту отпускали на все четыре стороны. Группами и в одиночку белые плелись домой.
От тех, кого всё же зачисляли в ряды советских войск, уже приходили домой письма, в которых с гордостью сообщалось о новых хозяевах. И родственники, измученные ожиданием худшего, радовались такому обороту дела.
Губернские и городские ревтрибуналы и чрезвычайные комиссии поначалу оправдывали даже офицеров, освобождая от стражи, если действия обвиняемых в белой армии или на занятой территории не отличались жестокостью. Не один из таких освобождённых поступил в военную школу, чтобы стать «красным командиром».
Отряд белых под командованием бывшего командира 4-го корпуса генерала Бакича, серба по происхождению, участника антисоветского восстания чехословацкого корпуса на Сибирской магистрали в 1918 году, перешёл китайскую границу и остановился на речке Эмиль в сорока верстах от города Чучугон. Отряд же атамана Оренбургского казачьего войска, генерал-лейтенанта Дутова, перейдя в Китай около Джаркента, направился через Кульджу в городок Суйдун, где и расположился лагерем.
В середине 1920 года против советской власти восстали зажиточные крестьяне сибирских сёл и станиц Петропавловского, Кокчетавского, Акмолинского и других районов. Их поддержали оставшиеся после разгрома колчаковской армии офицеры. Красные части вытеснили восставших на китайскую территорию. Новые «гости» Китая, возглавляемые офицером Токаревым и начальником штаба Сизухиным, присоединились к бакичевскому отряду.
В феврале двадцать первого года атаман Дутов был убит в своём лагере пробравшимся туда чекистом. Генерал Бакич, начальник штаба Смольнин и ближайшее их окружение отнеслись к этому событию по меньшей мере безразлично. Бакич, может быть, удовлетворённо вздохнул. Разбитые наголову, потерявшие и людей, и территорию, бежавшие генералы ещё надеялись на превратности судьбы, на уничтожение большевиков и на своё место при дележе спасённой России.
Интернировав русские войска, китайцы не полностью разоружали их. Белым удалось спрятать и пронести в лагерь много револьверов, винтовок и даже пулемётов.
Поначалу китайские власти обеспечивали лагерь продовольствием по правилам интернирования, но потом, очевидно, аппетит русских надоел им, и паёк стал день ото дня уменьшаться. Одних это вынудило идти в Чучугон и его окрестности внаймы к китайцам, других – любителей острых ощущений – перебраться в этот городок для воровства и грабежей.
С марта 1920 года отряд Бакича стоял по май следующего года, когда хозяева, боясь за себя и свои пожитки, попросили советское командование помочь избавиться от непрошеных гостей. Небольшой красный отряд, перейдя китайскую границу, в стычках с белыми стал теснить их на север, к границе Монголии.
Чтобы не дать противнику соединиться с остатками разбитого в Монголии отряда барона Унгерна, красные выслали навстречу Бакичу отряд под командованием Байкалова, занявший позицию в долине монгольской речки Кобук. Наткнувшись на него, белые понесли в боях большие потери. Часть их – 220 человек – метнулась в сторону русской границы и по Чуйскому тракту ушла вглубь Алтая к добиваемым остаткам повстанцев Кайгородова и Тужелея. Остальные пошли на восток, к городу Урге, где были зажаты красными в клещи, из которых немногим удалось вырваться и укрыться на китайской границе. Главные же силы Бакича – около трёх тысяч человек – сложили оружие и были конвоированы в Россию, где их вместе с офицерами распустили по домам. Только восемнадцать доставили в Ново-Николаевск и там осудили.
Отряд Дутова, потеряв прикрытие с севера и юга, отказался идти вглубь Китая, он повернул к границе России, где вчерашних врагов неожиданно радушно приняли красноармейцы, накормили, обмундировали и походным порядком отправили до железной дороги.
Из 150 тысяч человек армии на юге Колчаковского фронта домой вернулись немногим более пяти тысяч. Так закончила существование Южная группа Колчака, действующая на фронте Челябинск–Троицк–Орск–Актюбинск–Челкар.
4.
Осенью 1919 года в Благословенной расквартировалась кавалерийская часть Красной армии. Во двор Веренцовых въехали семь всадников.
– Ну, дядя, как живёшь? – задорно спросил красноармеец вышедшего из землянки Степана Андреевича, нерешительно подходившего к всадникам. – Проводил, говоришь, сынков с белыми-то? Нас, поди, не с охотой встречаешь?
Веренцов молчал.
– Чей это дом? – спросил другой.
– Наш это дом, Веренцовых, – ответил хозяин.
Елена Степановна робко шла за мужем, прислушивалась к разговору.
– Знаем, знаем эту фамилию, слыхали, – сказал красноармеец и спрыгнул с коня, снова обращаясь к хозяевам, стоявшим неподвижно, как бы в ожидании приговора. – Ну как, старшего сына записали в поминание или нет? Если не записали, то запишите. Его поймали и расстреляли, – серьёзно сказал он.
Веренцовы недоумевающе моргали глазами.
– А Петя и Миша, как они-то: живы, штоль, аль нет? – спросила мать, смахивая фартуком слезу.
– Никого больше не знаем, а про Дмитрия точно известно, что расстреляли, – отрывисто сказал красноармеец и повёл коня на задний двор вслед за товарищами.
Родители стояли как окаменелые. Тяжёлым камнем сдавило грудь Степана Андреевича. Он повернул голову в сторону жены, сказал дрожащим от слёз голосом:
– Снохе-то не вздумай говорить, да и детишкам тоже. С ума ведь сойдут, бедные. А, может, ещё и неправда. Теперь всё наболтают, только слушай.
Елена Степановна тихо голосила.
Отец и мать топтались на месте, не зная, куда идти. Казалось, что каждый шаг принесёт только новое поражающее известие, новое горе.
Красноармейцы не ошиблись: Дмитрия уже не было в живых. Только погиб он по-другому.
Во главе семи казаков подъесаула Веренцова командировали для выполнения особого задания далеко в сторону наступающей в Киргизии Красной армии. В двадцати-тридцати верстах от своей части разведка встретила большую конную группу красных и стала отходить.
Зная близость Ишима, под углом преградившего путь белым, отряд красных разделился на две части – одна пошла глубоким фланговым обходом слева, чтобы выйти к Ишиму и пересечь путь отступления белых по берегу реки, другая слегка теснила казаков, направляя к реке.
Вот и крутой берег Ишима… Внизу бурлит жёлтая вода. Казаки поворачивают налево, вниз по течению. Обстреливая их с верха, нападающие задели пулей выше локтя руку казака Громилина. Тот крепко выругался, по-звериному оскалившись и рыча, выхватил клинок и во весь карьер бросился на красноармейцев. Его сокрушающий тяжёлый клинок неизменно нёс гибель противнику на австрийском и германском фронтах. Громилин не знал равных себе, не считал врагов, когда злился. Вот он уже в нескольких метрах от группы в несколько десятков человек, по нему беспрерывно щёлкают выстрелы с коней. Пуля решила его судьбу, пробив голову.
Когда Громилин рухнул под своего коня и Дмитрий увидел гибель одного из лучших своих соратников, он сверкнул глазами и закричал:
– Братцы, станичники! В клинки на эту сволочь! В атаку! – и во всю мочь бросился на преследующих, прежде чем казаки развернулись для атаки.
Веренцов врубился в конную группу и тут же был изрублен. Следом постреляли и порубили остальных. Тела их остались лежать на берегу Ишима на съеденье и расклёвывание хищникам и птицам.
Победителями были казаки, перешедшие на сторону красных под Актюбинском во главе со своими командирами Богдановым и Шеиным – близкими друзьями Дмитрия Веренцова…
5.
Лютой, морозной январской ночью в ворота Веренцовых постучали. Это переполошило весь дом – неурочный приход мог принести только ужас, горе, страдание, открывать ворота никто не решился, кроме Степана Андреевича. Он тихонько встал и старчески поплёлся к двери. Не было в нём прежней твёрдости казацкой походки, последние три года пригнули его чуть не до земли, иссушили тело, исковеркали сердце, помрачили ум своими чёрными картинами. Он и теперь плёлся как бы машинально, безразличный ко всему.
Вьюга во дворе бросала в лицо холодные колючие горсти снега, захватывала дух каким-то безвкусным газом. Предчувствие говорило, что громовые удары слухов должны смениться ударом грозы, безжалостно уничтожающим всё вокруг, превращающим в пепел, в землю.
Степан Андреевич с силой протиснулся к воротам, взялся за холодный запор и подавленно спросил: «Кто там?» За воротами чуть слышно, как из могилы, отозвался женский голос: «Это я, дядя Степан, откройте». Степан Андреевич не узнал этот голос, всё же отодвинул задвижку и надавил на железную защёлку. Малое полотно открыл ветер. Перед Веренцовым выросла фигура, с головой закутанная в шаль. Она равнодушно обронила: «Здравствуйте» – и пошла мимо хозяина во двор, направляясь к убогой землянке, служащей теперь пристанищем семьи Веренцовых после сгоревшего дома. Степан Андреевич последовал за ней. В сенях он сам нашёл скобу и потянул дверь. В сени хлынул тёплый вонючий воздух, уступая место белому морозному пару. Клубы пара плыли по полу, кидаясь под образа, мгновенно теряя седую окраску.
Женщина перешагнула порог, перекрестилась на образа и тихо поздоровалась с прижавшейся к печке Еленой Степановной и сидящей на нарах Наташей.
– Уж и не знаю, как вам сказать, – начала она нехотя, – я стояла сегодня на базаре, подошла форштадтская женщина и спрашивает: «Вы откуда будете?» – «Благословенская», – говорю. «У вас есть там Веренцовы?» – она спрашивает. «А как же, – говорю, – у нас много Веренцовых – дворов восемь». «Да вот, – говорит, – мой сын письмо прислал из Красной армии, а в этом письме написано так: “Мама, передай в Благословенку Веренцовым, что их Михаил убит. Я его сам видел убитого в последний день моего перехода из белых в красные”. Вот так она и сказала. Я оттуда гнала лошадь чуть не в карьер и в трактир обедать не заехала. Эта женщина мне свой адрес записала на бумажке, там где-то она, в горшке, эта бумажка, я уж сейчас не стала искать».
Степан Андреевич стоял около нар, теперь он сел, положив голову щекой на ладонь, слёзы текли через ладонь. Он без звука всхлипывал, как наказанный ребёнок, которому не велят плакать.
Елена Степановна лежала на нарах, с ней была горячка.
Вся в слезах Наташа ухаживала за ней. Наутро, ещё до света Наташа поехала по указанному адресу.
Вечером она вернулась бледная, как стена. Её пуховая шаль смерзлась от слёз и стояла колом. В письме у форштадтской казачки всё было так, как передала вчера посёлочница.
Рухнувшие родители после подтверждённого известия о втором сыне начали хиреть, сжиматься в комок с каждым днём.
Дни же текли неизменной чередой. Робко, нерешительно, в одиночку в станицу понемногу возвращались казаки. Старались приходить ночью, чувствуя на душе немало грехов. Но теперь их никто не преследовал, наоборот, даже представители местной власти встречали их, как дорогих гостей, тем более что многие из пришедших уже побывали в Красной армии, воевали на польском фронте, на подавлении Кронштадтского восстания.
В Красной армии служил и средний сын Веренцовых, Пётр, от него пришло несколько писем. О Дмитрии Веренцове никто ничего не знал. О Мишке ходили разные слухи: одни говорили, что он ушёл за китайскую границу, другие – что служит в красном кавалерийском полку, третьи энергично утверждали: убит. Всё сводилось к тому, что Мишку никогда больше не увидеть. Горе и печаль безысходная матери и отцу до гробовой доски. Тяжело, безрадостно, безутешно…
6.
Мартовское солнце принесло на землю свои благодатные лучи. Снег стал рыхлеть. В полдень на солнце от проталин поднимался пар. Не улетавшие на зиму птицы, исчезнувшие в лютые морозы, теперь весело кричали на разные голоса с крыш, заборов, плетней, мусорных куч. Даже воробьи пели по-своему мелодично и радостно.
Весеннее настроение вызывал первый грач, когда он с гордой осанкой, подняв нос, выходил по мусорным сугробам.
Показались перелётные птицы, зимующие далеко у берегов Средиземного моря, в Северной Африке. Родовой инстинкт гнал их сюда, в места, не совсем ещё освободившиеся от снега. Иногда они замерзали, погибали от бескормицы, не найдя открытых рек, обнажённых полей и талой воды, бессильные остановиться перед временем любви, откладывания яиц в новых летних сибирских, уральских гнездовьях…
Степан Андреевич тихо вышел во двор, без мыслей смотрел по сторонам. Так же бесцельно пошёл он на скотный двор. Там было пусто, только брошенная красными худая лошадь в лишайных пятнах смотрела на него печальными глазами. Степан Андреевич машинально повернулся и побрёл за ворота. Какая-то сила тянула его туда. Привалясь спиной к воротнему столбу, стоял, смотрел на тёмный сугроб посредине улицы. Как будто и сейчас ему видны были следы коня на этом сугробе, когда сыночек Миша на Масленицу вскочил на коне на этот сугроб, и конь, увязнув до живота, вначале лёг на снег, потом как будто спохватился, что увидит хозяин и будет бранить друга Мишку, – перелез на животе на другую сторону сугроба и вихрем унёс Мишку по улице. Степан Андреевич смотрел из дома в окно, грозил пальцем оглянувшемуся сыну и кричал: «Экий сумасшедший чертяка, коня-то изломаешь, я вот тебе, сукин сын, дам вечером – как по сугробам лазать…». Да, хорошо, что не было в это время Степана Андреевича на улице, а то бы обязательно огрел сына какой попало чурпалкой или кинул бы мёрзлым помётом…
Долго потом Степан Андреевич видел эти следы, пока не растаял весь сугроб. А вот если бы сейчас Мишка скакал на коне, даже пьяный бы скакал, и тогда бы Степан Андреевич не сказал бы сыночку ни слова.
Далёкое детство сына вспомнилось ему, он перебирал в воображении картины проказ его. Вспомнил, как Мишка чуть не замёрз, когда бежал за отцовскими санями на мельницу; как громил сестрёнкины куклы, а ему, отцу, приходилось быть судьёй между дочерьми и сыном; в воспоминаниях он дошёл до минут разлуки в Оренбурге в январе девятнадцатого, когда сын в последний раз обнял отца, поцеловал – и заплакали оба, прощаясь навсегда.
И старший сын, Дмитрий, увиделся Степану Андреевичу – с военной щеголеватостью ладной фигуры, упругой походкой, ездой на коне… О многом передумал Степан Андреевич – чего не увидеть уже никогда. Всё унесли с собой сыновья в могилу. Если и осталось маленькое утешение, это Пётр, который пока ещё жив, а дальше тоже неизвестно. Пётр пишет, как участвовал в знаменитом будённовском рейде, когда Будённый за шесть дней вбил молниеносный, страшный клин во фланг и тыл польских войск, пролетев со своей кавалерией от Днепра до Вислы, разрушив польскую военную машину вместе с планами польского командования овладеть Москвой…
Как шилом кто-то кольнул Степана Андреевича в сердце, он взглянул вдоль улицы: с противоположного конца шла женщина. Не было в ней ничего необыкновенного, другие прохожие опережали её, но как только Степан Андреевич увидел эту фигуру, он уже не мог оторвать напряжённого взгляда. Он нервничал; казалось, что женщина идёт медленно, хотелось, чтобы та ускорила шаги, хотя она и так спешила.
Уже видно было её разгорячённое улыбающееся лицо, она вытирала глаза. Веренцов всё не узнавал её.
– Дядя Стёпа, – сказала подошедшая дрожащим голосом, – уж и не знаю, как вам говорить… Не плачьте и не горюйте, доподлинно известно, что ваш Миша жив…
Степан Андреевич побледнел, обильные слёзы застлали ему глаза. Хотелось рассмотреть, узнать женщину, но он так и не узнал её, даже и позднее. Он не знал, что сказать, застыл на месте, потом попятился и сел на скамеечку. Тем временем женщина проскочила в ворота и побежала в землянку. Через минуту оттуда выбежала Елена Степановна и с каким-то диким рёвом бежала, как молодая, навстречу мужу. Держась друг за друга, разом обессилевшие, они поплелись в землянку.
– Вот смотрите, – сказала им Наташа, разворачивая помятую бумажку величиной с ладонь и поднося к глазам Степана Андреевича. Тот ничего не мог разобрать. – Поля говорит: в городе, на базаре видела пожилую женщину из Форштадта, которой сыновья написали из Сибири, что с ними наш Миша. Надо скорее ехать в город, разыскать её и посмотреть письмо.
– Ничего я, дочка, тут не разберу, да и некогда рассматривать, а поезжай поскорее в город, вот и всё тут. Ты пока собирайся, а я запрягу, – сказал Степан Андреевич и направился к двери.
В Оренбург она выехала в предвечерний час, когда во многих церквах звонили к вечерне. Наташа, не стесняясь прохожих, широко крестилась на каждую церковь, встречавшуюся по дороге. Направляясь к Форштадту, она миновала зелёный базар и поравнялась с огромными монастырскими кладбищами, кресты и ограды которых смотрели на неё через низкую стену. Тупо заныло сердце Наташи: может, и муж лежит где-нибудь под крестом и холмом земли, вероятнее всего, вот на этом кладбище, которое так притягивает к себе, пугает жуткой, призрачной тишиной. И всё же неотступно хотелось смотреть и смотреть на эти холмики и эти кресты.
Скажи ей кто-нибудь, что здесь похоронена первая и незабываемая возлюбленная мужа, Наташа, как родная, поплакала бы на её могиле, даже зная, что Миша любил, а может быть, до сих пор любит её больше, чем Наташу.
С верстовой стеной кончилось кладбище, Наташа свернула направо, потом налево. Это была Могутовская улица. На одном из её углов выделялся огромный шатровый дом, на который и показал прохожий.
– Да, вот у меня два сынка где-то там, – сказала Наташе хозяйка дома, – тоже от них не было никаких слухов, а вот теперь прислали письмо.
Старушка выдвинула ящик швейной машины и вынула квадратный листок, вырванный из газеты. Братья писали: «Проездом из Алтайского края в Новониколаевск мы находимся в Барнауле, с нами вместе состоит в части благословенский Веренцов». Имени не было.
Наташа не помнила, как благодарила хозяйку и всех в доме. С высокого крыльца в десять-двенадцать ступенек она слетела тремя шагами. Подбежала к коню, поцеловала его в щёку около глаза, дрожащими руками расправила вожжи и, не слушая хозяйку, которая уговаривала переночевать из-за позднего времени, выехала на темнеющую улицу.
Елена Степановна не вставала с колен, проводив в город Наташу, до глубоких сумерек молилась, чтобы в письме форштадтских казаков было имя её сына, чтобы сноха привезла именно такую весть.
Степан Андреевич самодовольно улыбался, беспрерывно теребил бороду и приглаживал волосы со лба на затылок. Он обошёл всех соседей и родственников, чтобы поделиться радостью и выслушать поздравления, отчего на душе делалось ещё радостнее. За несколько часов Степан Андреевич как-то выпрямился, помолодел, приосанился, даже шутил по-прежнему с друзьями-соседями. Несколько раз заходил в избу, пытался заговорить с женой, но та махала рукой: просила не мешать ей молиться для общей их пользы. Он с улыбкой, безнадёжно махал в ответ рукой и уходил на скотный двор. Он сегодня готов был свалить животным всё сено, до этого тщательно экономленное, а когда шёл к соседям, то говорил, смеясь:
– Чёрт их знат, што за люди: то его убьют, то воскресят, то уморят тифом, то он опять у них ходит, свет коптит, этот Мишка. Уж сколь разов его хоронили и опять откапывали, я уж и сам не пересчитаю, – старался он показать себя равнодушным к любым слухам. – Вот баба моя, всё поминанье перемарала: то за здравие его запишет, то за упокой, и так разов пять писала. Как запишет наново, так бежит в церковь молиться, весь платок, да что платок – шаль-то всю засморкает, а оттудова придёт – глаза на лоб лезут от слёз. Вот оне какея, бабы, язви их, слабые. Вот мы, мужчины, не такие, мы твёрдые, да ещё казаки, а казакам плакать не полагацца. Вот она и севодня: сколь разов ни заходил в избу, ну, ползает и ползает по полу, наверно, все коленки ободрала, а я без обеда остался и, наверно, без ужина спать лягу. Ну да ладно, пусть потешится, уж больно слух-то хороший. Мишка придёт, то над эхтими поминаниями насмеёмся с ним вдосталь. Наташка завтра приедет, наверно, тоже все места будут мокры от радости. А вот что ни говори, кум, всё-таки жалко их, сукиных сынов. Вот бытто теперь немного отвалило от сердца, хоть Михайло-то жив. А вот Митрия-то уж, наверно, не увидим никогда. Он ведь настоящий казак, он ни за што не пойдёт в плен, будь это большевики или буржуи, али австрийцы. Это настоящий запорожец Тарас Бульба. Раньше ведь казаки никогда в плен не ходили, а теперь, как воробьишки с кола на кол перелетают, как только на них кто тулуп выворотит. Я ни за што не думал, што Мишка в плену окажется, думал, што он от Мити не отстанет ни на шаг, а вот он характером-то не дошёл до Мити, – сидел Степан Андреевич верхом на огромном бревне соседа и рассказывал ему о своих взглядах на сыновей и их характеры, а сосед тем временем строгал грядку, соглашался с рассказчиком, потерявшим счастье и наполовину нашедшим его вновь…
Время подвигалось к полуночи. Степан Андреевич сидел на нарах, свесив ноги. Елена Степановна грела спину около печки. В ворота резко постучали. Тревожный стук привычно уже вызвал дрожь в теле.
Степан Андреевич не торопясь оделся, вышел и, медленно обходя лужи, направился к воротам.
– Да што вы там так долго не открываете? – раздался голос Наташи.
– Дак мы тебя не ждали, дочка. Разве можно так поздно ездить? Вот отчаянная голова, –- отодвигая задвижку, укоряюще заметил Веренцов. – Ну, как дела? Говори скорее!
– Дождёмся, дождёмся мы своего Мишеньку, папаша. Теперь только ждать – и всё, хоть десять лет. Всё от сердца отвалило. Я оттудова не видела, как доехала, а туда ехала, думала, что выехала ещё до воскресенья.
– Ну, чего там написано? Скажи скорее, ради Христа, не тяни.
– Ну, просто написано, мол, дескать, мы в Сибири, а с нами вместе Веренцов, а имя нет.
– Как в Сибири? Значит, на каторге? – спросили родители.
– Ну зачем на каторге? – поправила сноха, – служат где-то в Сибири тоже, на конях. Они пишут: «Проезжаем», значит, не пешком ходят, а ездят.
Елена Степановна заплакала:
– Ну зачем опять в казаках служить? Лучше бы в солдатах служили. Солдаты-то ведь все большевики. А то опять против них. Ой, Господи, Господи, опять печаль. Да и имя-то нет, может быть, и не он. Веренцовых-то ведь много. О-хо-хо-хо-хо, это не утешение…
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1.
В одну из зимних ночей 1921 года явился домой средний сын Веренцовых, Пётр. В Красной армии он прослужил около двух лет, и теперь, как говорил, полностью очистившись от белых грехов, вернулся настоящим, закалённым в боях красноармейцем. Встретили его со слезами радости и горя.
По-прежнему не было известий от Михаила. Сообщение форштадтских казаков не подтверждалось. Они прислали уже несколько писем, где ни слова не было о Веренцове. Их мать по просьбе Наташи несколько раз просила сыновей сообщить о Веренцове, но, очевидно, письма терялись на почте. И о Мишке опять пошли разговоры, сводившиеся к тому, что он умер или убит. Опять говорили, что из отдела «О здравии» в поминание раба Божьего Михаила, пожалуй, надо переписывать в отдел «О упокоении».
Если священник на амвоне читал поминание и доходил до «раба Божьего Михаила», поминая его вместе с живыми, Елена Степановна сморкалась в юбку, метала злой взгляд в сторону попа и шептала: «Нет уж, видно, Царство небесное надо ему говорить, нечего тут зря болтать тебе, косматому дьяволу. Фу, прости, Господи, мою душу. Ведь я же сама подала ему поминание». Идя домой, терзалась: куда же записать Мишку.
Уже многие советовали Наташе покинуть дом Веренцовых и выйти замуж: «Что зря там околачиваться?» Наташа колебалась, хотя уже казалось порой, что она здесь лишняя.
Уже некоторые словоохотливые «женихи» заводили разговоры о погоде, о хозяйстве, о семье, чтобы потом намекнуть, как плохо, мол, жить одной, а женихов-то теперь днём с огнём не найдёшь; что теперь девок-то брать некому, хоть за границу вези, а уж баб-то и не подумает никто сватать; что, мол, теперь бабы не должны зевать, когда присватывается какой-нибудь; что Наташа уж не так молода, как ей кажется, а пройдёт год-два – и совсем никто сватать не будет… Наташа терялась, но засевшая мысль о возвращении мужа не давала ей думать о чём-либо другом.
Так прошёл ещё год. Наташа несколько раз слёзно просила форштадтских казаков написать о Михаиле, но ответа не было.
В праздники она завидовала подругам – те дождались своих мужей или «боле-мене» удачно вышли замуж и теперь вместе ходили в церковь, в гости, гуляли в компаниях. Все они были счастливы, как казалось ей. При встречах жены старались похвалиться мужьями, и каждая подчёркивала, что не следует ждать того, чему нет возврата. Наташа понимала эти намёки и в душе разделяла их, осуждая себя за упрямство.
Время шло, не принося успокоения. Подруги к Наташе приходили теперь даже с дальнего конца станицы. Разговоры чаще всего вертелись вокруг банально-непристойного, весёлого и необязательного, пьянящего, как вино. И она поняла: оставался шаг до черты, переступить которую значило отказаться от Мишки.
Наконец к Наташе пришла Надёжка.
– Ну, Наташа, нам нечего теперь сердиться друг на друга, нечего нам с тобой делить, – всё больше возбуждаясь, говорила Надёжка, – я ведь только знакома была с Михаилом, а быть у нас с ним ничего не было с самого детства и до самой его смерти. Я только дружила с ним, как с братишкой, привыкла к нему и всё. Если бы вот сейчас он был жив и пришёл домой, то я бы с ним и разговаривать не стала, я уж его давным-давно забыла. Всё-таки он гордый и высокоумный был у тебя, язви его, Царство ему небесное, за это я его просто ненавидела. Уж как только ты с ним и жила, бедняжка, мне просто жалко было тебя всегда. Давай-ка теперь не будем отбиваться друг от друга. Ты ментом забудешь этого прощелыгу, не тем будь он помянут. Он ведь сколь над людями надсмехался? Чтоб ему в тартарары… тьфу, прости, Господи, заболталась я тут с тобой. Мне надо идти.
Наташа слушала, опустив голову, потом взглянула на Надёжку, сверкнув глазами после её проклятия.
– Давно ли он тебе такой постылый стал, сучка ты этакая? – сказала она. – Забыла, как голяшками сверкала да задом крутила перед ним? А-а-а, заткнулась? Негодница ты такая!
– Фи-и-и, – свистнула Надёжка, – только и свет в окошке – твой Мишка, – он сам за мной бегал, как кобель по мясным рядам, а я им не больно-то нуждалась, просто убегала от него, да всё.
– Не ври, не ври, – перебила Наташа, – ты сама говорила, что каждый вечер тебя потягота берёт, когда лежишь на постели и думаешь о нём. А когда встретишь его, то трясёшься, как в лихорадке.
– Фу ты, ну ты, трясусь, нашла перед кем трястись. Это тебе Верка наговорила, я знаю. Врёт она, чертовка. Я его всегда прогоняла от себя, а он нейдёт и нейдёт, «Люблю, – говорит, – тебя, Надя, да што хошь со мной делай». А с женатым-то я с ним никогда не разговаривала, где он идёт, дак я обойду за версту. Ну, это всё – наплевать. Давай дружить будем. Ты сегодня приходи ко мне вечером, – тихо, чуть не шёпотом говорила Надёжка, – пойдём с тобой в одно место. Ух там и весело, а ребята какие! У нас с Анюткой уже есть, ну, и тебе найдём. Приходи обязательно!
Наташа не ответила.
2.
Апрель принёс влажные циклоны. Засиневший в низинах снег превратился в мутные, смешанные с шугой воды. Они съедали береговой снег, бешено рвались по оврагам, с огромного яра низвергались в пучину Урала, копая огромные колодцы. Шум береговых водопадов сливался в монотонный гул, временами заглушаемый громовым грохотом рухнувших глыб из подточенной водой кручи.
Последние льдины неслись по Уралу вслед за ушедшими ледовыми полями. Поспешной силой ледовых скопищ их выдавило, выдвинуло на берег. Подтаивая, они белели на илистых откосах… Поднявшаяся от заторов вода вдруг снимала их, освобождая от берегового плена, и возвращённые в материнское русло спешили за оставленной семьёй.
Скручивая мутные струи, Урал бежал в лоно Каспия. Чернели от дичи затоны и ерики. С юго-запада нескончаемо тянулись стройные караваны гусей, лебедей, журавлей, торопливо мешались тучи уток.
От раннего утра до позднего вечера стекали с небосвода трепещущие трели жаворонков.
По ночам доносились с воды неугомонный шум плавающей, плещущейся, крякающей дичи, с полей – мелодичные зовы журавлей.
Пестрели последними островками снега поля. Придирчиво осматривались, починялись телеги, полевой инвентарь… По вечерам на крутой берег Урала и у дворов с солнечной стороны, где было уже сухо, собирался народ, выманенный из домов весенним теплом. Чего только не говорилось здесь – под многоголосье перелётных птиц, шум воды, грохочущей с яра! Вспоминали об ушедших в отступление и не возвратившихся родных и знакомых, погибших от тифа, от пули и шашки, от голода. И опять заводили плач, как будто покойник умер только вчера и сейчас лежал в переднем углу.
Не знающие горя дети тут же играли, резвились в весенней благодати жизни – даже те, у кого погиб отец – последний кормилец семьи. Они уже всё забыли.
Влажные, обещающие вечера дышали любовной истомой. Надёжка, не знающая на себе ничьёй узды, переметнулась в компанию девушек. Больше, чем любая из них, знала Надёжка о тёмной тайне женского магнетизма. Изредка она ходила к Наташе, хотя не могла не видеть её холодности.
3.
Дни семейные мешались с днями хозяйственными в глухом недоумении перед днями политическими. Коверкались устои старого – везде, где был человек. Общественную землю поделили на «души» – раньше у казаков землю получал только мужчина, достигший шестнадцати лет, теперь каждая «душа» получала пай.
Крестьян, проживающих в станицах, приравняли к казакам, наделили земельными и лесными угодьями. Бедноту объединили в «комитеты бедноты» для совместной обработки земли инвентарём и машинами, их щедро давали в кредит Кредитные товарищества. Батраки, работающие у зажиточных, были застрахованы, их заработная плата закреплена договорами. Всё это до того изумляло стариков, что ни о чём другом они не говорили. То и дело на общих собраниях толкли воду в ступе, доказывая своё – хорошее или плохое – в новых порядках, в зависимости от того, к каким прослойкам принадлежали спорящие.
Степан Андреевич часто, сидя во дворе, высказывал своё удивление по поводу новой власти.
– Гы-ы, антиресно, – говорил он сам себе или соседу, – приезжают эфти шефы, да вон начальники всех красных, из эфтой же Чеки, штоль, дак ходят по землянкам, по дворам, лезут в каждую дыру, где должна быть дверь. Там вонища, аж в носу вертит, в землянке-то и теляты, и ягняты, и дети. Ну, а они заходят, смотрят, всё спрашивают, не брезгуют. Вон, к Палагеи, к вдове, после убитого мужа, пришли, а она спряталась, думала, за мужа и её арестуют, а оне обсмотрели всё и дали ей зерна: «На, – говорят, – получай, корми ребятишек и сама ешь».
– Вон они какие чудные. А потом: как кто захворает, велят вести к дохтуру, да што – людей, собак и то велят лечить. Гы-ы, вон фершал свою белу собаку уж два раза водил на верёвочке в город, к какому-то ветринару, штоль. Да я ребятишков-то не возил, не отрывал коня от работы, особенно летом. А што толку в этом? Да ничего: кому што на роду написано, то вози не вози, а если ему умереть, то он всё равно умрёт, а жить ему, дак ево насильно в землю не утолкнёшь…
Подобные разговоры велись в каждом дворе.
4.
Тёплая, солнечная, золотая стояла осень. У подъезда большого оренбургского здания с краткой вывеской «ГПУ» на карнизе с чемоданами, чемоданчиками, дорожными узлами и сумками толпился народ. Одни не решались войти в учреждение, толкались на самом подъезде, хотя очередь их давно прошла, другие сразу поднимались по ступенькам и исчезали за дверями, проходя в кабинеты. Внутри здания были недолго.
На расспросы очередных вышедшие с улыбкой отмахивались, на ходу бросали: «А вот заходи, там узнаешь, как и что…» Но заходить многие всё же не решались, ждали следующего выходящего и опять задавали тот же вопрос, на который им или не отвечали, или отделывались недоумённым: «Да шут знает, как будто ничего, а не знай… Разве у них поймёшь?».
Учреждение это было Государственным политическим управлением, а толпившиеся около – прибывающие из разбитой колчаковской армии военные. Одни уже успели побыть красноармейцами после колчаковской и дутовской армий, другие не подходили по возрасту или здоровью и шли домой, третьи посидели где-нибудь в Доме Принраб (Доме принудительных работ) или концлагере и, освободившись, тоже ползли домой. Все они обязаны были зайти в местные «ГПУ» «для отметки», не знали, что это такое, и ломали головы в догадках. У одних «душа была не чиста», другие боялись наговоров односельчан. Многие не только заходить сюда, но и проходить мимо боялись. Но рано или поздно, а заходить было надо, и они наконец решались, вскоре выскакивая, вытирая пот, красные, как из бани.
– Фу-у-у, грёп её в спину. А уж как я боялся-то, аж поджилки тряслись, – делился вышедший с ожидающими. – Ну, теперь, кажется, все мытарства прошёл. Ребята-товарищи-господа из гепею сказали: «Ступай домой к своей бабе насовсем». Ей-богу, не вру. Вот так штука. А ведь што нам офицеры-то говорили! У-у-у… – и, махнув рукой, чуть не бегом скрывался за угол служивый.
С небольшим чемоданчиком в одной руке и узелком – в другой подошёл к подъезду «ГПУ» казак в шинели. Усталое бледное лицо его говорило скорей о городском, чем деревенском происхождении. Подойдя, он учтиво поздоровался с очередными, спросил, за кем должен будет входить. Ему ответили:
– Исповедуют-то скоро и семишник не берут, а вот все как-то боятся заходить к ним, чтобы не оставили мышей ловить да блох давить в подвале. Ну, вот и жмёмся, не заходим в эфтот вентерь, как караси. Если храбрый, при напролом, в затылок не становись.
Подошедший подумал, достал какую-то бумажку, сложенную вчетверо, и после некоторой паузы прошёл мимо прижавшихся к стене казаков и открыл дверь в обширную, заставленную конторскими столами комнату.
За столами сидели люди в военной форме со знаками различия от одной «шпалы» до «ромба». Вошедший подал свой документ первому к двери человеку за столом.
– Это не сюда, товарищ, а вон туда пройдите, через нашу комнату, к товарищу Подольскому, – показал рукой в глубину здания сотрудник с двумя «шпалами».
Посетитель прошёл в следующую комнату с двумя столами, за одним из которых сидел военный с такими же двумя «шпалами» на отложном воротнике защитного френча. Это и был Подольский. Он взял из рук казака справку, выданную демобилизационной комиссией, долго, внимательно изучал её. Окинув пристальным взглядом стоящего перед ним, сделал какую-то отметку в своей тетради и, вернув справку, крепко пожал руку казаку:
– Будем знакомы. Наше учреждение шефствует над вашим Благословенным посёлком. В воскресенье я и два моих товарища приедем к вам. Там увидимся ещё.
– Буду рад знакомству с вами. Прошу, заезжайте прямо ко мне в дом, какой он там ни есть.
– Даю слово, заедем, ждите. Нам грамотные люди нужны, а у вас там ни в Совете, ни в клубе работа ещё не начиналась… Итак, враги в недавнем прошлом делаются сегодня друзьями, – загадочно рассмеялся Подольский и ещё раз пожал посетителю руку.
– Да, у русских это проще всего: сегодня дерутся, а завтра друзья – водой не разольёшь, – так же загадочно усмехнувшись, сказал казак. – У русских мести нет, как на каком-нибудь Кавказе, да ещё «кровной», средневековой.
– Поэтому русские бьют всех, когда они живут в дружной семье, – сказал Подольский уже в спину уходящему.
– Так точно, так будет и впредь, – ответил, оглянувшись на него, казак, прежде чем выйти к ожидающей его очереди.
Из очереди к нему, как и раньше, посыпались одни и те же вопросы. Вышедший тихо и внятно сказал, не обращаясь ни к кому:
– Если бы нам пришлось расплачиваться шкурой за всё, многим из нас шкуры бы не хватило, пришлось бы доплачивать костями… Но советские начальники, видимо, решили красным карандашом крест поставить на наших грехах, да и возиться-то им с нами уж надоело, вот и отпускают на все четыре…
О циркулярном письме ЦК РКП(б) от 29 января 1919 года о массовом беспощадном терроре ко всем вообще казакам путём поголовного их истребления ни товарищ Подольский, ни другие ответственные товарищи из ОГПУ возвращавшимся с фронтов Гражданской войны служивым по вполне понятным причинам не сообщали.
5.
Василиса, другая сестра Михаила Веренцова, отдана была замуж в станицу Красноярскую до германской войны. Там она прожила с мужем четыре года и в революцию переехала на жительство в Форштадт – пригород Оренбурга.
Мишка бывал у сестры несколько раз. Выйдя из здания «ГПУ», он направился в Форштадт узнать: живёт ли сестра там. После всего, что пронеслось с революцией, её там могло и не быть.
После долгой разлуки сердце непривычно колотилось. Остались ли родные в живых, узнают ли?
Вот вдали по улице показался дом. Хотелось бежать к нему, но ноги налились, как свинцом, и не слушались, в висках стучало. Михаил подошёл к воротам, прислонился к стойке, чтобы немного прийти в себя.
Во дворе слышались голоса играющих ребятишек. Он посмотрел в щёлку ворот – взрослых не видно. Постучал щеколдой. Подбежала девочка со светлыми, как ковыль-цветун, волосёнками, открыла калитку, удивилась незнакомому дяденьке в солдатской шинели.
– Поповы здесь живут? – проглотив ком в горле, спросил Мишка.
– Здесь, дяденька.
– А мама и папа дома?
Девочка не успела ответить – на надворном крылечке появилась сестра. Она стояла столбом, ничего не могла выговорить, трудно было узнать брата в этом худом, осунувшемся солдате.
Михаил со всех ног бросился к сестре, обнял, целуя:
– Васёна!.. Да что же ты – не узнаёшь меня?
По голосу, по глазам узнала сестра, закричала:
– Миша, братик ты мой милый! – заливаясь радостными слезами, целовала брата. – Заходи в комнату, что же мы на пороге! Скоро Володя приедет с работы… Он на железной дороге работает…
Утром Михаил с зятем Владимиром наняли подводу и поехали в Благословенную.
6.
Степан Андреевич сидел на скамеечке у ворот своего двора. Как и всегда, перебирал он в воображении события бурных последних четырёх лет. В памяти стояли не возвратившиеся из отступления сыновья. Что-то теперь с ними, где они теперь? Живы ли? А если мёртвые, то где же схоронены? Кто оплакал их, лучших из всех Веренцовых, родившихся как будто для того, чтобы преждевременно уйти в землю…
Слева из-за угла выехала бричка. На ней сидело трое, один в солдатской шинели без погон. Все трое пристально смотрели на Степана Андреевича. Он приложил руку ко лбу, шепча:
– Никак Митя едет… Господи… Боже мой, так и есть, он…
Бричка описала большой круг, чтобы подъехать к воротам передом. Военный спрыгнул с телеги, бежал в объятия отца.
Степан Андреевич тем временем кричал в ворота, на двор, копавшейся там Елене Степановне:
– Мать, иди скорее сюда, Митя приехал!
Елена Степановна подбежала к воротам, хотела проскочить мимо мужа на улицу и застряла в узкой калитке.
Сжав обоих в объятья, застыл между отцом и матерью сын.
Услышав крик свёкра в воротах, с заднего двора бежала Наташа. Под оханье свёкра: «Митя, Митя, как ты похудел» – Наташа сдержанно застенчиво поцеловала военного, воображая его деверем Дмитрием… И тут же поняла ошибку, закричала во весь голос:
– Папаша! Да ведь это же не Митя, а Миша!..
7.
Сквозь сон, как будто у самого изголовья, Михаил услышал петушиный крик, но это не было пробуждением, а как будто приходом знакомого бреда. Он спал и не спал, слыша отчаянный, на пределе ужаса крик: «Прощайте, братцы!..», стальное лязганье тюремной двери». «Это сон, – понял Михаил, – Этого не может быть. Это ведут на расстрел смертников».
Пузырьками воздуха в закипающей воде всплывали в сознании тюремный жёлтый свет, запахи, бессильное ожидание без времени. Снова лязг запоров. Вошедшие называют фамилии. И снова: «Прощайте, братцы!..» Один, названный, рыдает навзрыд, другой стоит у нар, бессмысленно перебирает в узелке жалкий скарб…
Он ждёт своей фамилии, чувствует, как холодеет затылок, жизнь мечется волком в поисках выхода, как тогда, под Орском, в смертном кольце красных, – но выхода нет, и он змеёй из старой кожи выскальзывает из кошмара…
Как липкую паутину, Михаил стёр со лба потный ужас, с которым нельзя жить, и проснулся. Сердце колотилось, как будто хотело вырваться из грудной клетки.
В сложенное из осколков стекла окошко, вмазанное в саман, сочился осенний рассвет. Под полусброшенным цветным одеялом обессиленно разметалась Наташа. Шестилетний Васятка, вчера испуганно гладивший ему щетину на щеках, сонно сопел за печью. Отец с матерью ушли на ночь к родне. От спёртого воздуха в землянке нечем было дышать. Михаил понял: не уснуть. Он тихо оделся, вышел во двор.
Михаил захлебнулся от утренней свежести, закружилась голова. Он постоял, пережидая. Знакомой дорогой ноги повели его к Уралу. Чем ближе подходил он к родному яру, тем больше отпускала в сокрушённом, озябшем сердце закрученная от отказа пружина. Урал двигался всей своей живой гладью, видный отсюда от берега до берега.
Вдоль свежего обрыва Михаил пошёл в сторону гумен и старого кладбища. Немного осталось от его заросших могил – в последние половодья река подточила крутой берег, унося с обрушенными глыбами казачий прах…
Поросший чернобыльником и тысячелистником холмик – пограничный рубеж их детских игр. Отсюда для них, казачат, начиналась неведомая земля. Михаил опустился на траву.
Большая роща сквозила на другом берегу. От шумных птичьих поселений на обнажённых вершинах остались тёмные кучи гнёзд.
Михаил размягчённо окинул взглядом станицу. В ней, сожжённой три года назад, появились слепленные на скорую руку землянки из камня-плитняка и глины. Кое-где между ними зияли плеши пожарищ с закопчёнными печными трубами – как будто чёрные корявые руки грозили кому-то, указывали в небо.
«За что им такое? За что беда, как небо над головой – не взять её ничем, не достать? За что эти годы жизнь кидала из огня в полымя, заставляла прожить до времени, не обещала ничего, кроме гибели?» – Михаил судорожно сжатыми кулаками ударил о землю, с глухим стоном повалился на неё, уткнулся лбом в выцветшую дернину, перекатывал лицо по жёсткой полыни…
Жадно, до ломоты набрал он воздуху в искалеченную грудь – осенней, влажно-острой, томящей свежести прибрежных талов, вольной сухой горечи полыни, откуда-то потянувшего кизячного дыма. Думать он ни о чём больше не мог. Всё, к чему почти в звериной тоске по дому стремился он из крови и ужаса братоубийства, было здесь…
Жерех ударил на быстрине… Михаила потянуло к воде. Он стоял не шевелясь у самого обрыва и смотрел, как из береговой глубины, где вода выворачивается колесом, поднимались крупные голавли с чёрными ремешками вдоль спины и чёрными хвостами. Пошевеливая красными плавниками, они схватывали с поверхности воды невидимый корм и уходили в глубину.
Урал, уже по-осеннему прозрачный, бежал мимо, словно уносил беду в своих водах, брал её, как отец, на себя.
Слабый низовой ветер зарябил воду. Длинные ломаные белостальные змеи побежали наискосок по Уралу. Над степью, всё больше светлея лучами, поднимался холодный багровый шар.
Две фигуры показались из-за крайних домов станицы, и одна, маленькая, тут же отделилась, рванулась в сторону Михаила. Не оглядываясь на мать, не глядя под ноги, к нему бежал, летел сын Васятка. Он разогнался так, что было страшно: вот упадёт… Васятка запрокинул от бега голову, смеялся и что-то кричал отцу, и взъерошенные с ночи волосёнки белым огнём вспыхивали на солнце.
1945–1947 гг., Карагандинский исправительно-трудовой лагерь
Литературная обработка: 1992–1995, 2015 гг., г. Оренбург
[1] Набат – тревога; бой в доску, звон в колокола для сбора народа по случаю пожара или иной общей опасности.
[2] Былка – травинка, былинка, стебелёк.
[3] Чеблык – длинная палка, шест.
[4] Город Багдад до 1917 г. – в составе Османской империи.
[5] Киргизы – до 1917 г. От киргиз-кайсаков Младшего жуза или Малой орды на территории нынешнего Казахстана.
[6] Илецкая Защита– ныне г. Соль-Илецк.
[7] Оселедец – чуб, коса или косма на темени головы.
[8] Сажень – 2,13 метра.
[9] Бекеша – сюртучок на меху.
[10] Тычки – заострённые металлические штыри.
[11] Юшка – мясной или рыбный навар, в переносном значении – кровь.
[12] Склень, всклень – говорят о жидкости в посуде: полно, вровень с краями.
[13] Жнейка –машина на конной тяге для уборки зерновых.
[14] Вольноопределяющийся – в русской армии XIX – нач. XX в. добровольно поступивший на военную службу после получения высшего или среднего образования и несущий службу на льготных условиях.
[15] Альбо – разделит. союз – или, или же.
[16] Чара – искажённое «вчера».
[17] Торка – искажённое «только».
[18] Гинденбург Пауль фон (1847–1934), президент Германии с 1925, ген.-фельдмаршал (1914). В 1-й мировой войне командовал с ноября 1914 войсками Восточного фронта, с августа 1916 нач. Генштаба, фактически главнокомандующий. 30 января передал власть в руки фашистов, поручив Гитлеру формирование правительства.
[19] Родство – родственники (местные).
[20] Мясоед – скоромные дни, Рождественский мясоед между Великим постом и Рождеством Христовым.
[21] Ментом – искажённое «моментом».
[22] Залежная земля – поле, покинутое 8–10 лет назад по истощении почвы.
[23] Темпы – конные казачьи приёмы – перебрасывание через лошадь на полном скаку с одной стороны на другую.
[24] Натло – совсем (каз.).
[25] Кастор – сорт плотного сукна.
[26] Башлыки, башлаки, большаки, чеблаки – искажённое «большевики».
[27] Александр Ильич Дутов (5(17) августа 1879, Казалинск — 7 февраля 1921, Суйдун, Китай) — потомственный русский военный, герой Белого движения, атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант (1919). Его детские годы прошли в Фергане, Оренбурге, Санкт-Петербурге и снова в Оренбурге…
А.И. Дутов окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус в 1897 г., Николаевское кавалерийское училище в 1899 г., в чине хорунжего направлен в 1-й Оренбургский казачий полк, стоявший в Харькове.
В Санкт-Петербурге окончил курсы при Николаевском инженерном училище 1 октября 1903 г. и поступил в Академию Генштаба, однако в 1905 г добровольцем ушёл на Русско-японскую войну, воевал в составе 2-й Маньчжурской армии, где за «отлично-усердную службу и особые труды» во время боевых действий награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. По возвращении из Маньчжурии продолжил обучение в Академии Генерального штаба, по окончании которой в 1908 году по 2-му разряду штабс-капитан Дутов направлен для ознакомления со службой Генерального штаба в Киевский военный округ в штаб 10-го армейского корпуса.
С 1909 по 1912 г. преподавал в Оренбургском казачьем юнкерском училище. Своей деятельностью в училище Дутов заслужил любовь и уважение со стороны юнкеров. Одним из его учеников был Г.М. Семёнов — впоследствии Забайкальский войсковой атаман… В декабре 1910 г. Дутов награждён орденом Св. Анны 3-й степени, а 6 декабря1912 г., в возрасте 33 лет, произведён в чин войскового старшины (соответствовавший армейский чин — подполковник). В октябре 1912 г. командирован для годичного цензового командования 5-й сотней 1-го Оренбургского казачьего полка в Харьков. По истечении срока командования в октябре 1913 г. вернулся в училище, где прослужил до 1916 года.
20 марта 1916 г. Дутов добровольцем ушёл в действующую армию, в 1-й Оренбургский казачий полк в составе 10-й кавалерийской дивизии III-го конного корпуса 9-й армии Юго-Западного фронта. Принимал участие в наступлении Юго-Западного фронта под командованием Брусилова, во время которого 9-я русская армия разгромила 7-ю австро-венгерскую армию в междуречье Днестра и Прута. Во время этого наступления дважды ранен, второй раз тяжело. Однако уже после двух месяцев лечения в Оренбурге вернулся в полк. 16 октября Дутов назначен командующим 1-м Оренбургским казачьим полком совместно с князем С.В. Бартеневым.
В аттестации Дутова, данной ему графом Ф.А. Келлером, говорится: «Последние бои в Румынии, в которых принимал участие полк под командой войскового старшины Дутова, дают право видеть в нём отлично разбирающегося в обстановке командира и принимающего соответствующие решения энергично, в силу чего считаю его выдающимся и отличным боевым командиром полка». К февралю 1917 г. за боевые отличия Дутов награждён мечами и бантом к ордену Св. Анны 3-й ст. и орденом Св. Анны 2-й ст.
После Февральского переворота 1917 года избран в марте 1917-го товарищем (заместителем) председателя Временного совета Союза Казачьих Войск, 1 июня 1917 г. – председателем II Общеказачьего съезда в Петрограде, а 7 июня 1917 г. – председателем Совета Союза Казачьих Войск. В сентябре 1917 г. избран атаманом Оренбургского казачьего войска и главой (председателем) войскового правительства. По своим политическим взглядам Дутов стоял на республиканских и демократических позициях.
К октябрю 38-летний Дутов превратился в знаковую фигуру, известную всей России и популярную в казачестве. 26 октября (8 ноября) Дутов вернулся в Оренбург и приступил к работе по своим должностям. В тот же день он подписал приказ по войску № 816 о непризнании на территории Оренбургского казачьего войска власти большевиков, совершивших переворот в Петрограде, став, таким образом, первым войсковым атаманом, объявившим войну большевизму.
Атаман Дутов взял под свой контроль стратегически важный регион, перекрывавший сообщение центра страны с Туркестаном и Сибирью. Перед атаманом стояла задача провести выборы в Учредительное собрание и поддерживать стабильность в губернии и войске вплоть до его созыва. С этой задачей Дутов в целом справился. Приехавшие из центра большевики были схвачены и посажены за решётку, а разложившийся и настроенный пробольшевистски (из-за демагогически-антивоенной позиции большевиков) гарнизон Оренбурга разоружён и распущен по домам.
|
В ноябре Дутов избран членом Учредительного собрания (от Оренбургского казачьего войска). «Родзянко, Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при помощи Калединых, Корниловых и Дутовых превращают трудовое казачество в орудие своих преступных целей...» – этими словами открывалось обращение большевистского Совета Народных комиссаров (СНК) от 25 ноября 1917 г. А главному комиссару Черноморского флота и «красному коменданту Севастополя» В.В. Роменцу СНК послал следующую «установочную» телеграмму: «Каледины, корниловцы, дутовы – вне закона!» - красноречивый памятник «революционного правосознания»... Открывая 7 декабря 2-й очередной Войсковой Круг Оренбургского казачьего войска, Дутов говорил: |
«Ныне мы переживаем большевистские дни. Мы видим в сумраке очертания царизма, Вильгельма и его сторонников, и ясно определенно стоит перед нами провокаторская фигура Владимира Ленина и его сторонников: Троцкого-Бронштейна, Рязанова-Гольденбаха, Каменева-Розенфельда, Суханова-Гиммера и Зиновьева-Апфельбаума. Россия умирает. Мы присутствуем при последнем её вздохе. Была Великая Русь от Балтийского моря до океана, от Белого моря до Персии, была целая, великая, грозная, могучая, земледельческая, трудовая Россия — нет её».
16 декабря атаман разослал командирам казачьих частей призыв направить казаков с оружием в войско. Для борьбы с большевиками нужны были люди и оружие; на оружие он ещё мог рассчитывать, но основная масса казаков- фронтовиков воевать не хотела, только кое-где формировались станичные дружины. В связи с провалом казачьей мобилизации Дутов мог рассчитывать лишь на добровольцев из офицеров и учащейся молодежи, всего не более двух тысяч человек, включая стариков и необстрелянную молодежь. Поэтому на первом этапе борьбы оренбургский атаман, как и другие лидеры антибольшевистского сопротивления, не сумел поднять на борьбу и повести за собой сколько-нибудь значительное число сторонников.
[28] Каргин – атаман 1-го округа Оренбургского казачьего войска.
[29] Кобозев Пётр Алексеевич (1878–1941) – член РСДРП с 1898 г. В 1915–1916 гг. – в ссылке в Оренбурге, один из руководителей Оренбургской социал-демократической организации. После февральского переворота – начальник и комиссар Ташкентской железной дороги. Активный участник Октябрьского вооружённого восстания, делегат 2 съезда Советов. С ноября 1917 по февраль 1918 г. – чрезвычайный комиссар по Западной Сибири и Средней Азии, возглавлял борьбу с дутовщиной. В 1918 г. - Народный комиссар путей сообщения РСФСР, член Реввоенсовета Восточного фронта, член Реввоенсовета Республики.
[30] Коростелёв А.А. (1887–1939) – Рабочий. Член РСДРП с 1905 г. После Февральского переворота – председатель Оренбургского Совета рабочих депутатов, член городского комитета РСДРП, редактор газеты «Пролетарий». В 1918 г. – председатель Оренбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, заместитель председателя Оренбургского военно-революционного комитета.
[31] Цвиллинг Самуил Моисеевич (1891–1918) – Вступил в РСДРП(б) в 1905. В 1907 году за участие в вооружённых выступлениях в период революции 1905—1907 годов (ограбил аптеку, застрелив аптекаря — своего дальнего родственника) приговорён к смертной казни, заменённой 5-летним тюремным заключением. В 1916 году во время Первой мировой войны мобилизован в армию.В 1917 году после Февральской революции С. М. Цвиллинг председатель Челябинского совета и председатель комитета РСДРП(б). Избран депутатом Учредительного собрания от Оренбургского избирательного округа по списку № 8 (РСДРП(б)). Приехал в Санкт-Петербург для участия в полуподпольном VI съезде РСДРП(б), стал одним из лидеров Октябрьской революции, комиссаром в Санкт-Петербурге и делегатом Второго Всероссийского съезда Советов. Вернувшись на Южный Урал, Цвиллинг организовывал красные отряды для борьбы с белоказаками атамана Дутова. Арестован в ноябре 1917 года, но бежал из-под стражи и с ноября 1917 года Цвиллинг — комиссар Совета Народных Комиссаров Российской Советской Республики в Оренбурге и председатель Военно-революционного комитета (ВРК) Оренбурга. С марта 1918 года— председатель Оренбургского губисполкома. 4 апреля 1918 года во время боя в станице Изобильной Оренбургского казачьего войска Самуил Цвиллинг убит войсковым старшиной С.В. Бартеневым
[32] Огнёвщики – пожарные.
[33] 22 марта – по старому стилю. По новому – 4 апреля.
[34] Мякина – вымолоченные колосья, от которых отвеяно зерно.
[35] Родина – для оренбургских казаков это земля Оренбургского казачьего войска, река Урал.
[36] Тебенёвка – зимнее пастбище (оренб.).
[37] Шагрень –выделанная кожа с конского (лошадиного) крупа.
[38] Борá – складка в одежде (местн.)
[39] Ленчик – деревянный остов седла.
[40] Водяной бык – выпь, из рода цапель.
[41] Галкин Николай Александрович — выпускник Владимирского военного училища и Николаевской Академии Генерального штаба..Во время Первой мировой войны служил в штабе Киевского военного округа в чине подполковника. С конца 1917 года руководил подпольной офицерской организацией в Самаре. После свержения советской власти в городе в правительстве КОМУЧа, с 8 августа по 24 октября 1918 года управлял военным ведомством. Руководил формированием частей Народной армии. После прихода к власти адмирала Колчака с 31 января 1919 года начальник Яицкого отдела войск Русской армии, подчинялся непосредственно командующему Уральской армией. Позднее командовал 11-м Яицким корпусом в составе Южной армии. В феврале 1920 года с отрядом А.П. Перхурова попал в плен у деревни Карпово близ Усть-Кута.
[42] Верный – г. Алма-Ата с 1921 г., с 1995 г. – г. Алматы.
Литературная обработка и подготовка текста Валерия Кузнецова, Сергея Веневцева.
Автор журнальной публикации Алексей Шорохов