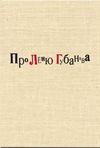Как Раменки да Никулино на Лыщикову гору взошли

Алексей Александрович Минкин — сотрудник газеты «Московская правда» — родился в 1968 году. Публиковался в газетах «Православная Москва», «Православный Санкт-Петербург», в «Московском журнале», журнале «Божий мир».Лауреат Международной премии «Филантроп». Живет в Москве.
Всякое судачат о столичных Раменках с их окрестностями: мол, и отшиб это московский — на кривой кобыле сюда не подъедешь, — и будто бы существует под этой землей оборонный город со специальной линией метро от Кремля. На первый взгляд, близость университета и киностудии «Мосфильм» придают всей местности добрые гримасы соответствующего культурного уровня. Да и метро — не секретное, реальное — здесь вскоре появится, взрыхлит древнюю землю. А она, земля здешняя, и впрямь со своей, веками сложившейся историей, культурой и связями.
Так, в свое время разрозненные околораменские уделы были напрямую зависимы от владельцев — помещиков, Донского монастыря и даже русских патриархов. Нынче, помимо прочего, Раменки с соседним районом Тропарево-Никулино удивительным образом пересеклись с Центральным округом, с Таганкой — точнее, со старинным Покровским храмом в Лыщикове, общине которого приписаны две местные церкви. Итак, Раменки с прилегающим Никулином, презрев географическую удаленность, восходят к яузской Лыщиковой горе — в духовном смысле и историческом.
Да, в наши дни на улице Раменки, д. 2–4, созидается храмовый комплекс, приписанный Лыщикову приходу. В 2001 году уже поднялась скромная деревянная Покровская церковка, разработанная архитекторами А.Оболенским и Д.Соколовым. Посвящение Покрову Богородицы, видимо, неслучайно: на Таганке-то тоже «Покров». Ну и более внушительный раменский храм, увы, превратившийся в долгострой, опять же имеет «оправданное» посвящение: во имя преподобного Андрея Рублева. То будет первая столичная «рублевская» церковь — по прославлению великого иконописца в 1988 году.
Впрочем, великий-то великий, а вот дата и место рождения, сословное происхождение — все в житии создателя «Троицы» опутано паутиной тайны. Известно, что учившийся у Феофана Грека, Рублев расписывал Благовещенский собор Кремля, Успенские соборы Владимира и Звенигорода, соборные храмы Троице-Сергиевой лавры и Савво-Сторожевского монастыря. Когда же и где выдающийся изограф принял монашеский постриг — вновь загадка. Всего скорее, в Спасо-Андрониковой обители, где он также труждался и которая располагается неподалеку от церкви Покрова на Лыщиковой. В общем, снова обусловленные промыслом свыше таганско-раменские связи. «И этой жизни труд печальный благословеньем Божьим стал», — выразился Николай Гумилев в стихотворении «Андрей Рублев». А уж то, что все наслышаны об одноименном фильме Тарковского, нет и сомнения. Правда, и суждение о преподобном в массовой публике, к сожалению, и по сей день складывается лишь по Тарковскому. Тем не менее иллюзии режиссера, перекочевавшие в умы зрителя, неплохо уживаются в великой иллюзии кино, что в свою очередь прижилось в современном московском районе Раменки, то есть на Мосфильмовской улице, д. 1, при главной нашей киностудии, киноконцерне «Мосфильм»...
Это город в городе, а точнее, целое иллюзорное государство, менявшее сложно произносимые названия и в 1937-м ставшее «Мосфильмом». Правда, первый павильон здесь соорудили за 24 года до того, а в 1924-м в нем выпустили и фильм. Между прочим, о «кинодеревне» на Потылихе — а «Потылихой» именовалась здешняя фабричная слободка, возникшая в XIX веке, — в книге «Одноэтажная Америка» писали Петров с Ильфом, приезжавшие сюда на консультацию с Эйзенштейном по поводу предстоящего путешествия за океан. Упоминал о Потылихе в изданных мемуарах и Эльдар Рязанов, снявший на «Мосфильме» любимейшие народом картины. А уж сколько о процессе съемок и киностудии вообще писано-переписано в воспоминаниях работавших здесь актеров — не счесть. Кстати, только на текущее время при киноконцерне числится до 14 тысяч снимающихся сотрудников. Сотни лент смонтировано здесь — золотой фонд и нашего, и мирового кинематографа.
Сегодня на «Мосфильме» хранится до 800 тысяч костюмов разных эпох, в том числе подлинных от XIX и начала XX века. Часть их экспонируется в прекрасном музее кинокомпании, который в качестве музея трудовой славы существовал и ранее, но абсолютно иные, завораживающие черты приобрел с назначением на руководящую должность всего предприятия режиссера К.Шахназарова.
Едва ли не главной достопримечательностью музея являются металлические «исполнители» ролей: кареты, велосипеды, автомобили и даже тракторы с танками. У каждого своя история, своя родословная: так, знаменитая белая «Волга» зарекомендовала себя в «Бриллиантовой руке», «Трех тополях на Плющихе», «Берегись автомобиля», шикарный «бьюик» использовался на съемках «Тегерана-43», а на родном собрате респектабельного «американца» катался последний император Китая, на всю страну показал себя и «мерседес» 1938 года выпуска, в котором передвигался Штирлиц, а не менее легендарные «Неуловимые мстители» лихачили на представленном «роллс-ройсе» 1913 года. Между прочим, в Англии действует клуб любителей «роллс-ройсов», которые вручную и штучно собираются на австралийских заводах, и тот клуб курирует сама королева; в нем учтены все экземпляры, когда-либо выпущенные в свет, не исключая и хранимых «Мосфильмом».
А вот пара древних велосипедов: говорят, ими владели Ильич с супругой, и потому они запечатлены в ряде лент «Ленинианы».
Впрочем, ретроградные средства передвижения еще не весь «Мосфильм», ибо киностудия — это также ее павильоны и открытые съемочные площадки. Одна площадка вымощена булыжником и прорезана каналами, другая — с макетами особняков, торговых лавок и усадеб — эксплуатировалась в «Войне и мире» Бондарчуком и Шахназаровым во «Всаднике по имени “Смерть”». Любопытна обстановка и в рабочих павильонах. Так, при использовании осветительных приборов температура внутри нагнетается до 40 градусов и выше, и, если аппаратура одновременно включается в девяти павильонах, не выдерживает существующая на территории киностудии подстанция. Остается только догадываться, что, к примеру, испытывали герои того же гайдаевского «Ивана Васильевича», облаченные внутри павильона в меха и парчу...
И еще: музейная коллекция периодически пополняется старинным оружием, телефонами, светотехникой. К слову, с недавних пор на территории концерна действует еще и фотогалерея «Пролаб». Что ж, галерейная и выставочная жизнь тоже вписывается в восхождение жителей и гостей Раменок на кручи культуры...
А начиналось, пожалуй, все в 1986 году, когда на улице Раменки, д. 6, открылся один из первых в Москве районных выставочных залов — то был Гагаринский район. Теперь учреждение именуется галерея «Раменки». Много позднее распахнул свои двери на Мичуринском проспекте, д. 54, библиотечно-музейный комплекс «Олимпионик», где мало-помалу собираются данные о прошлом и нынешнем дне Раменок. Имеется в здешних пределах и галерея «Дом-арт», расположенная в одном из коттеджей элитного жилого массива «Золотые ключи» по Минской улице, д. 1г.
Кроме того, под выставочные пространства налажена и часть здания бывшего кинотеатра «Литва», с 1967 года работавшего на пересечении Ломоносовского и Мичуринского проспектов. Нынче «Литва» стала Паломническим центром Московского патриархата — будто бы в память о существовании исстари в этих землях, при селе Троице-Голенищеве, поместья русских патриархов и московских митрополитов. Былое Голенищево с его храмом — тоже район Раменки, а в фойе Паломнического центра открыта своя галерея. Помнится, довелось в ней как-то посетить выставку, посвященную юбилею Великой Победы. Ну а к 40-летию битвы под Москвой неподалеку, на Мичуринском, в корпусе администрации Олимпийской деревни, появился целый музей обороны столицы...
Увы, все меньше и меньше остается в живых участников и свидетелей событий Великой Отечественной. Потому невозможно не вспомнить, что в этих пределах, в конце современной Озерной улицы, с XIX века существует Востряковское кладбище, на котором погребен не один десяток Героев Советского Союза и простых ветеранов войны. Скромный деревенский погост возник при сельце Вострякове, но в 1960-м он слился с городом и был значительно расширен. Его почва прикрыла множество известных людей Отечества. Некоторые из них (академик А.Сахаров) проживали в Таганском районе, иные (актеры А.Болтнев, А.Фатюшин, В.Авилов, Я.Жеймо, И.Извицкая, М.Зимин, режиссер М.Швейцер, писатель А.Вайнер) так или иначе были связаны с «Мосфильмом». Кроме того, на Вострякове нашли упокоение пианист Н.Штаркман, артисты эстрады и театра Г.Дудник, Я.Арлазоров, В.Мессинг, писатели и поэты Л.Разгон, П.Антокольский, Л.Дербенев, Е.Парнов, меценат Л.Поляков (прах перенесен с разоренного Дорогомиловского кладбища), родственники Л.Утесова и И.Кобзона, а также яркое созвездие прославленных советских тренеров, футболистов и хоккеистов: Г.Качалин, Ю.Севидов, А.Гринин, С.Капустин, И.Трегубов, Н.Сологубов.
Несколько лет назад кладбище обустроилось православным храмом во имя Крестителя и Предтечи Господня Иоанна. Кстати говоря, церковь Иверской иконы Божией Матери в конце 2013 года выросла и на Мичуринском проспекте, д. 70, — это опять-таки поблизости и от жилых домов Олимпийской деревни и от Озерной улицы. Правда, те городские объекты к Раменкам уже не относятся, поскольку являются их ближайшими, Никулинскими соседями, возникшими в качестве столичного района на месте сельца и нареченными, всего скорее, по имени его исконного владельца — боярина Никулы (Микулы) Вельяминова. Сподвижник и свояк Дмитрия Донского, Вельяминов погиб на Куликовом, а чуть позже, в 1392-м, впервые документально заявил о себе мужской Покровский монастырь в Лыщикове, на Таганке, — тогда там принял постриг брат преподобного Сергия Радонежского Стефан. Таким образом, мы совершим восхождение к былому и из Западного округа столицы перенесемся в Центральный...
Вообще-то Лыщиково городище известно было аж с XII века, и едва ли наименование урочища связано, как иногда полагается, с прозвищем первопоселенца или основателя здесь монашеского гнезда: «Лыщик» — пройдоха, проныра. убедительнее версия, по которой урочище и нынешний Лыщиков переулок топонимически ответвились от прозвания самого яузского холма: Лыщикова, то есть голая, лысая, гора. С растительностью здесь и сегодня, прямо скажем, не густо — в отличие, к примеру, от былого Никулина, славившегося садами, или нынешних Раменок. Вместе с тем подножие холма в древности тоже выделялось садовой зеленью, поскольку и Покровская обитель некогда именовалась «что в садах».
Действительно, в Средние века эти земли с садами принадлежали великим Московским князьям и передавались от отца к старшему сыну: Иван III завещал Лыщиково Василию, а Иоанн Грозный — царевичу Ивану. Собственно, и сам монастырь являлся своего рода придворным, при государевом поместье. Он и содержался за счет казны. основание ему положил, быть может, сын Дмитрия Донского Василий, а вот закрыл — вновь-таки предположительно — Петр I, явно недолюбливавший племя черноризцев.
Действующий и поныне Покровский храм, звавшийся либо «на Лыщиковой горе», либо «на Лихарёвом дворе» (по знатному прихожанину дворянину Ивану Лихарёву, обустроившему при церкви Казанский придел), является прямым наследником закрытой обители, хотя каменного собора в монастыре никогда не было. Соборный храм стоял в дереве, и лишь в 90-х годах XVII столетия храм, ставший приходским, поднялся в камне. Между прочим, он никогда не закрывался, хотя значительно пострадал при наполеоновском нашествии, а позднее, в 60-х годах ХХ столетия, опальный его священник отец Николай (Эшлиман) до конца жизни был отстранен от служения. Среди сегодняшних святынь лыщиковского «Покрова» следует отметить мощи прославленного в 2000 году московского священно исповедника Романа (Медведя). Изначально же каменный храм воздвигался на пожертвования дьяка Ивана Рогозина, впоследствии не раз перестраивался, и в конце XIX века приход содержал крошечную богадельню на четырех престарелых. Бытует предание, будто свою последнюю лепту на благо украшения церкви Покрова на Лыщиковой внесла и прабабушка Пушкина. Что же, к нам просится очередная связь эпох и событий...
Дело в том, что в раменских пределах, точнее, в Олимпийской деревне с 2002 года поселился Государственный музыкальный театр национального искусства под руководством В.Назарова, одним из очаровательных спектаклей которого стала пушкинская «Сказка о царе Салтане». Да, театру Назарова определили здание Большого концертного зала, спроектированного, как и вся Олимпийская деревня, под общим началом архитектора Е.Стамо. Когда-то здесь с аншлагами выступала «Машина времени», начинали показы некоторые театральные антрепризы, и именно сюда поначалу пытались прописать переехавший из Ленинграда театр миниатюр Аркадия Райкина. Хорошее здание, добротное — только вот добираться не ахти. Однако Назаров со товарищи, начинавший творческую деятельность в 1975-м, на 1-м курсе Института культуры, как создатель ансамбля народных инструментов, труднодоступности не испугались, а зритель благодарит присутствием. Еще бы, в театре на окраине всегда живая музыка. И это немудрено: его студенческий коллектив перерос в ансамбль народных духовых инструментов «Жалейка», а с 1988 года — в Государственный ансамбль фольклорной музыки. В итоге все преломилось в театр, а живые инструменты остались — вот и в «Салтане», где заняты С.Куликов, А.Аббасов, С.Дёмина, Ф.Матвеев-Витовский, К.Сехретдинов, «живьем» звучат рожки, жалейки, трещотки. Тут же и голосистая народная песня — русская, татарская, итальянская, испанская. Эффект потрясающий, а главное — доброе детское восприятие. Между прочим, руководитель самобытного театра является и автором пяти сотен песен к драматическим спектаклям, мультфильмам и кинофильмам. Конечно, «Мосфильм»-то рядом. И Александр Сергеевич под кровом назаровского театра звучит как-то по-новому. Явно вживую. Эх, «кабы я была царица»... Впрочем, и царицы, и государи, и предстоятели Русской Церкви и впрямь надолго задержались на землях будущего столичного района Раменки и его окрестностей. Столетиями Троице-Голенищевом, от коего сохранилась приходская Троицкая церковь на современной Мосфильмовской, владели патриархи и митрополиты, а к обедням «Троицы», бывало, заходил из дворца на Воробьевых Алексей Михайлович с окружением. Древняя земля...
Стариной веет и от самого названия «Раменки». Действительно, «раменье» по-славянски означает «дремучий лес». Трудно нынче представить на Мичуринском и Мосфильмовской чащобы и дебри, но с уцелевшей речушкой Раменкой здесь встретиться возможно. Кстати, на берегах Раменки, при впадении в нее Очаковки, и обитало стародавнее селение, давшее имя московскому жилому массиву.
Так или иначе, Раменками деревня именовалась не сразу: на сем месте значилась принадлежавшая Донскому монастырю пустошь Посевьево, которую усилием иноков к 1688 году застроили жилым и скотным дворами, амбарами, мельницами и заселили крестьянами сельца Семеновского. Спустя три года уже звучало монастырское село Посевьево, Раменки тож. В 1956-м Раменки обрели статус «рабочего поселка» и вскоре поглотятся подступившей столицей. Вот, кажется, и все. Остальные понятия: московские районы, бывшие некогда селами, деревнями, садами и даже возвышенностями, связаны удивительной общностью — в них проросло древо столичности, распустившее в былые предместья мощные ветви общей истории и украсившее их цветами духовности и культуры. Идиллия? Возможно. Однако многие раменские и околораменские примеры не без посредства двух храмов, созидаемых здесь приходом Покровско-Лыщиковской церкви, наводят на положительные мысли. Окраины совершают свое восшествие к общим высотам столичной жизни — в правильном смысле. Раменские земли притираются к Лыщиковой горе, вид с которой открывает дивные перспективы. Их бы только еще уловить, эти идеальные перспективы, и направить от отвлеченных высот в человеческое, земное русло...