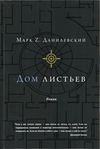Облака плывут по небу

Игорь Иванович Болычев родился в 1961 году в Новосибирске. Окончил Московский физико-технический институт и Литературный институт имени А.М. Горького. Поэт, переводчик, преподаватель кафедры русской литературы ХХ века (ныне кафедра новейшей русской литературы) Литературного института имени А.М. Горького, кандидат филологических наук, доцент.
Автор стихотворных книг «Разговоры с собою» (1990, 2019) и «Вавилонская башня» (1991), альманаха «Кипарисовый ларец» (2011, 2012).
Переводчик с английского и немецкого стихов Р.Бёрнса, Р.Киплинга, У.Б. Йейтса, Э.Паунда, Л.Уланда, А. фон Дросте-Хюльсхоф, Г.Бенна, Г.Гейма, Г.Тракля и др. и прозы А. Конан Дойла, Агаты Кристи, Дэна Брауна и др.
Руководитель Литературной студии «Кипарисовый ларец» (с 2008 года).
* * *
Я всего лишь осина у русской реки,
неизменная год от году.
И во мне оживают чужие стихи,
чтоб осыпаться осенью в воду.
Я всего лишь ребенок в коротком пальто
и в коричневых мокрых ботинках.
Я беру красный лист, чтоб пристроить его
на своих рисовальных картинках.
Я всего лишь коричневым карандашом
заштрихованная дорога.
И по мне, дребезжа на ухабах штрихов,
едет танковая колонна.
Я всего лишь чуть-чуть перекошенный дом
на обочине этой дороги.
Надо мной, завитой аккуратным жгутом,
черный дым поднимается строгий.
Я всего лишь зеленый носатый танкист —
неубитый, небритый и в шлёме...
Я всего лишь засохший осиновый лист
в чьем-то детском далеком альбоме.
1986
* * *
Человеческой жизни не хватит,
Притяженья не хватит звезде,
Чтобы мальчик в пальтишке на вате
Научился ходить по воде.
Он умрет от тоски и презренья,
Он иссохнет, считая часы,
Ожидая любви и прозренья,
Как трава полевая — росы.
И слова, что хранили народы,
И слова, что хранили века,
Как подводные атомоходы,
Тихо лягут на дно языка.
Человеческой жизни не станет,
Притяженье изменит звезде
До поры, когда мальчик восстанет
И пойдет по бурлящей воде.
Из-под ног, словно серые горы,
Субмарины всплывут из глубин.
С залпом ядерным новой «Авроры»
В мир придет человеческий сын.
И когда во вселенскую слякоть
Ухнет все с ненадежных орбит —
Что он сможет? Проклясть да оплакать.
* * *
Снова осень за окнами плачет.
Мокнут липы, скамейка и стол.
Ничего это больше не значит,
Жизнь твою этот дождик иначит
И смывает в холодный подзол.
На дорожке овальные лужи,
Человеческой жизни года —
Мельче, глубже, пошире, поуже.
Да, конечно, бывало и хуже,
Но бессмысленнее — никогда.
В сером небе гудят самолеты.
Льется с крыши на землю вода.
Капли, паузы, брызги, длинноты —
Русской музыки вечные ноты —
Ниоткуда летят никуда.
* * *
Лизе
Они приходят и уходят
И в небе серо-голубом
Беззвучно песнь свою заводят
О дорогом и о былом.
О том, что все на белом свете
Надеждой призрачной живет
На то, что никому «не светит»,
На то, что не произойдет.
Все не сбывается. И руки
Напрасно тянутся к рукам,
Невоплотившиеся звуки —
К несуществующим строкам.
И те, которые оттуда
Тебе сочувственно молчат,
Ждут не прозрения, не чуда, —
«Немного нежности» — отсюда,
От подрастающих волчат.
* * *
Часовые имперских традиций,
Простоявшие жизнь на посту,
Вам бы лучше совсем не родиться —
Обойти этот мир за версту,
В эмпиреях, других ли эонах
Провитать, проблистать.
Нам ведь мало — в вагонах зеленых
Петь и плакать. И плакать опять.
Нам ведь хочется в желтых и синих,
Непременно в отдельных купе,
Непременно в отдельных Россиях
И т.д. и т.п.
2010
* * *
Желтые листья лежат на земле.
Пеплом подернулись угли в золе.
Ветер не дует. Костер не дымит.
Грубыми досками дом наш забит.
Где эта улица, где этот дом...
Речка течет под железным мостом.
Черные елки стоят вдоль реки.
В лодках сидят на реке рыбаки.
Серая, бурая в речке вода,
Едут над ней по мосту поезда.
Едут-поедут, но — никогда,
Чтобы оттуда, только — туда.
* * *
Пруд пожарный деревенский
Отражает облака,
Сосны, ветер и шиповник,
Человека у сосны.
Вот стою над этим прудом,
Мой притоплен «телевизор»[1],
Выцвела его бечевка,
Износилось полотно.
Много продрано в нем дырок,
Но еще остались части
Целые, и в эти части
Попадают караси.
Иногда бывает восемь,
Иногда бывает десять,
Чаще — три или четыре,
А бывает — ничего.
Серая от тины леска,
Длинный узкий лист болотный
(В нескольких местах надломан),
Палка мокрая и мусор,
Что по пруду проплывал.
Облака плывут по небу.
Человек стоит у пруда.
Деревенский пруд пожарный
Отражает облака.
* * *
А теперь, когда падает снег —
Аккуратно, снежинка к снежинке, —
Это кровь превращается в свет —
Аккуратно, кровинка к кровинке.
Это все, кто когда-то страдал
Безызвестно и неотомщенно,
Упадают на Фрунзенский Вал
Отрешенно и просветленно.
Потому и спокоен, как храм,
Древний город в сознании новом,
Что не видно зияющих ран
Под сияющим белым покровом.
Видно, вышел отмеренный срок —
Больше кровь не взывает о мщенье.
Это нас, может быть, Самый Бог
Осеняет холодным прощеньем.
* * *
Дай мне руку. Все прожито. Дым на аллее пустой.
Восходящее солнце скрежещет о голые ветки.
Жалкий отзвук безумия, облачко пара: постой,
Дай мне руку, прохладная длинная тень человека.
Дай мне руку. Все выжито медленно, тихо, до дна —
По деньку. Как сонет, ты цитируешь запах на память.
Эта женщина в черном всегда почему-то одна,
Только рыженький гравий скрипит у нее под ногами.
Протяни же мне руку, скажи мне, о чем я, о ком,
Обними меня, Господи, как эта жизнь одинока...
Эта женщина в черном и этот заброшенный дом,
Это детское счастье отвеченного урока.
Протяни же, ведь если не Ты... Протяни же мне, дай...
И на черном подоле серебряная паутинка
Все дрожит и трепещет, цепляясь за медленный рай;
Только рыженький гравий скрипит под подошвой ботинка.
Сатанинская гордость: родился в таком-то году.
Отлетает с ладони клочок сероватого дыма.
Начинается все голубой хризантемой в саду,
А кончается страшно, бессмысленно, непоправимо.
Новый год
Все останется так до скончания лет и времен.
Все изменится так, что потом ничего не узнаешь.
Я запомню киоск и огромную бабу при нем,
сигареты «Пегас» и пуховую бабину вареж-
ку, каре кумачовых флажков у метро «Текстили»
над красивым плакатом «Решения партии выпол-
ним!» И тут же, над ним, в небо вздыбленные костыли
труб... и чей-то декабрьский «единый», оброненный на пол,
Новый год... Все останется так... Все изменится так...
Новый год, эскалатор рождает тебя, как ступеньку.
Я запомню, как в щель опускаю потертый пятак.
Чье-то лисье боа. И мужчину, нетрезвого в стельку.
И конечно, пока, Новый год, ты еще не возник,
я запомню людей, чтобы — Боже спаси! — не отречься
от кого-то из них, и шеренги распахнутых книг
вдоль вагона метро, и, конечно, родное наречье
с неизменным и емким, как память, «ети ее мать».
Все останется так. Все изменится — и не узнаешь.
Я запомню все это, чтоб чувствовать, помнить и знать —
что же это такое, что родиною называешь.
* * *
Эпоха кончилась, эпоха умерла.
Ты проводил ее под ручку до угла,
Небрежно бросил на прощание «пока».
Кто ж мог подумать, что вот это — на века.
Ты не любил ее. За пошлую тоску,
За прядку потную, прилипшую к виску,
За туфли сбитые, за мучениц-княжон.
Ты был эстет, ты был пижон, ты был смешон.
Она ушла, и не осталось ничего.
Ни от тебя, ни от нее — ни от кого.
Пустые рамочки на выцветшей стене.
Свобода совести в бессовестной стране.
1997
* * *
Ничего не слышно над землею.
Страшная такая тишина.
Может быть, она перед зарею.
Может быть, посмертная она.
Пляшут тени лунные по соснам.
Молча ветер травы шевелит.
Может быть, увидеть довелось нам,
Как творенье Божие лежит,
Брошено бессмертною душою,
Превращаясь медленно в скелет.
Ничего не слышно над землею.
Ничего на свете больше нет.
* * *
И — никогда... И больше — никогда...
Ладонь царапнув, вспархивает птица.
И в собственных объятиях вода
Бессмысленно под берегом кружится.
Вернуть? Догнать? Вопрос стоит не так.
Жизнь только в том, чего не быть не может.
И это вечно юное «тик-так»,
Боюсь, уже небытие итожит.
Они сошлись — начала и концы.
И на столе меж скомканных бумажек —
Четыре желтых лужицы пыльцы
От некогда стоявших здесь ромашек.
Еще тепло словам в твоих руках.
Еще дождит над пятой частью суши.
Еще звучит, но где-то там, в веках, —
Нежнее, безнадежнее и глуше.
* * *
Ты ли, другой ли... Осталось-то — горсточка слов.
Серый орел расправляет гранитные крылья.
Пыли и боли взыскующий плебс городов
В клекоте века становится болью и пылью.
Черной вселенской коростой становится то,
Чьи торопливые жабры сосали из слизи
Воздух и волю... Накинь на супругу пальто,
Дочь научи исполнять без ошибок «Элизе».
Сим победиши, продравшись сквозь перхотный страх,
Жизнью заплатишь за эти слюнявые крохи.
Груди имперской Венеры торчат в небесах
-ическо-оческо-атско-флективной эпохи.
Так называется то, что, вообще говоря,
И пожирает тот воздух, которым мы дышим.
Звука хрустальный корабль, оборвав якоря,
Тает в бессмысленном небе, на солнце горя,
Ржавые звенья согласных роняя по крышам.
Красивовато?.. Но в этом спасительный яд —
Теплый, целующий, полуразборчивый шепот...
Не отличающий чуда от яда солдат
К солнцу вздымает рифленый распоротый хобот.
Как он трубит! Как манит его царственный бюст!
Как он хрипит и скребет эту землю ногтями...
Свет из окна. Сизо-пестрый сиреневый куст.
Дождик. Жена на веранде хохочет с гостями.
Что ты застыл, как ипритом пропитанный глаз,
Мертвый от всех этих завтр, вчера и сегоден?
Встань и иди. Да сними этот противогаз.
Встань и иди. Он не нужен тебе, ты свободен.
[1] Телевизор — небольшая рыболовная сетка, «экран».