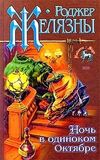«Боюсь попасть в ад...»

Дмитрий Михайлович Володихин родился в 1969 году. Окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. Профессор исторического факультета МГУ. Автор более 400 научных и научно-популярных работ, рецензий, в том числе 30 книг по истории России (монографии, справочники, сборники статей, учебные пособия). Лауреат премии Президента РФ в области образования, Макарьевской премии, премии имени А.С. Хомякова, кавалер Карамзинского креста.
Пирогов Л.Хочу быть бедным.М.:АСТ: «Астрель»; Владимир: ВКТ, 2011.
За окном — мир, в котором можно выбирать водку, родину, родителей и возлюбленных. Это зыбкий и неуютный мир, где нет четких границ между счастьем и несчастьем, добром и злом. «Человек “пластичный” чувствует себя в таком мире как рыба в воде, а вот человек “с принципами” — захлебывается... Между тем литературу делают именно те, кто с принципами... Пластичные пишут “тексты”».
Три малых короба опавших эссе и уединенных рецензий Льва Пирогова, критика и публициста, сложены в большой расписной сундук «Хочу быть бедным». Автор — из тех людей, которые верят в Бога, стоят на карауле посреди холодных, серых волн с винтовкой на плече и, если потребуется, не дрейфят бить окна. Это ярко выраженный почвенник, смеющий заявлять, что без почвы вообще ничего доброго в литературном творчестве быть не может. А по форме высказывания — наследник Розанова по прямой.
Никто его слушать не станет, но он прав.
Правда его проста: верь, не ври, сочувствуй людям. Что ты за писатель такой, говорит Пирогов всем своим сборником, если не помнишь о смерти и о посмертном суде над твоей душой? «Вот люди раньше боялись попасть в ад. Потом они перестали этого бояться и сразу туда попали. Их жизнь — стала адом... Я боюсь попасть в ад. Это и есть моя мотивация».
Какая мотивация может быть лучше? Но, к сожалению, слишком многие поймут это уже после смерти. На входе, так сказать...
И литературные фавориты нынешних дней для Пирогова не Людмила Улицкая, не Виктор Пелевин, не Татьяна Толстая и даже не Владимир Маканин, признанный «живым классиком» за... прежние, думается, заслуги. Пирогов любит тех, кто изнутри, с полным сопереживанием пишет о русской надежде, русской вере и русской любви... но более всего — о русской боли, пронизывающей народное тело от кончиков волос до корней потрохов. «Ровный, как стол, ландшафт “нашей новой литературы” превращает двадцативосьмилетнюю Ирину Мамаеву в титана, в глыбу». Почему? «Она работает в редком и многотрудном жанре “русская классическая литература”». Иными словами, знакомит читающего человека с жизнью, от которой он оторван, но без знания которой не может «осознать ни судьбы своего народа, ни собственного исторического предназначения». Истинные великаны нынешнего литературного процесса, по Пирогову, — та же Ирина Мамаева, Борис Екимов (в представлении не нуждается), Роман Сенчин, в книгах которого эта русская боль зашкаливает и душу беспощадно жалит, да еще неистовый поэт Всеволод Емелин. И еще, может быть, Александр Морев — пусть и пишущий плохо, но умеющий рассказать истории, «после которых становится труднее дышать. Давление подскакивает или что-то такое... Все эти плохо рассказанные истории почему-то очень легко представить рассказанными хорошо. Может быть, потому, что это ХОРОШИЕ ИСТОРИИ... Они пробуждают хорошие чувства».
Важная — может быть, важнейшая — черта текстов Пирогова: в подавляющем большинстве случаев мэйнстримовский критик говорит о «художественном качестве», «особенностях техники», «исканиях в области формы», «арсенале приемов», «свежем видении», «принадлежности к течению» такому-то — иными словами, о всех тех штуках, которые связаны с общей темой как написан текст; Пирогов, напротив, старательно напоминает: само оправдание творческому акту писателя может быть получено только из того, что сказано в его произведении. А если там очень красиво и высококлассно ничего не сказано, если там самовыражение — до небес, если там куча «тонко подмеченных деталей», изощренная литтехника, но суть высказывания сводится к нулю или к банальности, то... на кой и писать-то было?
Разумеется, и тут Пирогов прав, но разве ж кто к нему прислушается!
Пирогов злобно напоминает: существуют такие понятия, как труд, правда, совесть, любовь, родина, вера, смирение и ответственность. И может, конечно, литератор внутренне отгородиться от них, делать свою работу так, будто он пишет дневник наблюдений за какой-то иной реальностью с подводной лодки, через перископ, на изрядной дистанции от того, о чем пишет. Может даже перестать сочувствовать бедным людям, живущим в промерзшем до звона мире, превратить их в такой же объект наблюдения, как волны или танкер на горизонте. Отчего ж нет? Может. Все в мире нелепо, и пусть барьером между действительностью и трепетной творческой личностью послужит ирония, подбитая с испода теплыми шкурками самоиронии... Вот только отстранение это, удаление в одиночество, никак не перечеркивает простой правды: на самом деле уйти из реальности нельзя — ни литератору, ни его книгам. «Один человек думает и поступает не так, как много людей. Одному быть красиво, потому что никто не истолкует твою грусть-тоску некрасиво, неправильно, в душу не плюнет, не посмеется. Но когда плохо, нужно идти к людям, а то станет хуже. Бог есть. Россия — наше Отечество... Вот вокруг этого как-то оно вертится». Если кто-то из писателей забыл, что все это существует и для него, что все это и для него обязательно, если ему как-то неудобно окунаться в подобную архаику, то он никакой не писатель, а шут. Артист оригинального жанра...
Конечно, никто не станет слушать критика Льва Пирогова. Но он и тут прав.
Общество атомизируется? Ну, то есть разваливается на одиночек? Одиночка никому ничего не обязан, кроме своевременной выплаты налогов? Нормой это считать? Отдать всему этому лучшую поляну в лесу литературы? Вот уж дудки! Никакая это не норма. Освобождение от души, от совести, от веры, от долга в отношении близких людей и всего своего народа ради бестрепетного самовыражения означает всего-навсего упрощение мира до уровня плинтуса. В результате такого упрощения остается ровный сверкающий паркет, гибнет все, что устремляется к высоте и сложности. Такое упрощение — это ведь просто Гельман какой-то: какашка с кровью на первое, пластиковая человечина на второе. И когда Лев Пирогов назойливо тычет писателю в самые очи: «Ты должен! Ты обязан!» — он поступает правильно. В сущности, он пытается вернуть миру ту сложность, которая приличествует творению Божию.
Просто правда у него — ну такая неудобная! Она ведь много к чему обязывает...
За такую правду мало кто сволочью не назовет.
Бог в помощь, Лев Васильевич.