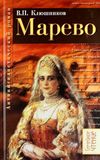Ящик с инструментами

Оксана Павловна Лисковая родилась в Москве. Окончила Литературный институт имени А.М. Горького, семинар поэзии Олеси Николаевой. Вела детскую литературную студию при московской библиотеке имени Александра Грина. Работает в Литературном институте и ведет занятия для абитуриентов. Печатается в журналах «Литературная учеба», «Ревизор.ру», «Поляна», «Ковчег», «Лиterraтура». Как автор и редактор сотрудничала с издательством «Эксмо». Лауреат журнала «Литературная учеба», конкурса «И память сердца говорит» (Австрия). Вошла в лонг-лист драматургической премии «Премьера-ПРО». Победитель в совместном конкурсе торгового дома «Библиоглобус» и портала ГодЛитературы.РФ «Память Победы». Член Союза писателей России, член Союза журналистов Москвы.
— Платон был учеником Сократа, Аристотель был учеником Платона, Александр Македонский ничего не боялся. Учитель — человек очень смелый. Тот, кто идет учить других после того, как научился сам, дарит бесстрашие в общении с миром, помогая двигаться юной душе вперед.
...Каково же определение того, чему имя «душа»? Разве существует другое какое-либо определение, кроме только что данного: «Душа — это движение, способное двигать само себя»?..
Там, где для души стоит знак вопроса, всегда находится тот, кто может не только дать ответ, но и задать новые вопросы, чтобы снова и снова искать идеи и определения, порядок и основы. Вы меня понимаете?
Ученица кивнула и снова принялась рисовать. У него было в эти годы всего два ученика: сын соседа и эта девочка. Оба они готовились в Суриковку, поэтому сидели в мастерской после школы допоздна, до полуобморока, когда карандашные линии сливались с заходящим днем, со звонками от родителей, с усталостью позвоночника. А с ватмана смотрел Аполлон мертвыми гипсовыми глазами.
Мальчик смотрел за забор. Он любил смотреть на улицу в эту щель. Бабушка еще не позвала на ужин. Мама еще не пришла. И не надо было рисовать или играть на пианино. Перед самым ужином его отпускали в школьный сад погулять. Он обходил садик, проверял секретики — зарытые в землю фантики под стеклышком. Дети из этой школы скоро превратятся в слонов, в умственно отсталых слонов, такими они казались. Они, конечно, не разрушали его кладов, потому что в их жизни не было секретиков. Но втайне он надеялся, что они подглядывают из жилого корпуса за его игрой.
Но они не подглядывали, они давно уже лежали в кроватях и слушали город.
— Володечка! Володечка!
Тонкая испарина зависти покрыла его лоб — там, за забором, шел совсем взрослый человек, на одном его плече висел мольберт, на втором — перетянутый веревками, нелепо прикрытый серой мятой тряпкой холст, из нагрудного кармана рубашки торчал мастихин. И все эти названия пришли к мальчику сразу, как только он уловил запах масляной краски и соснового масла. Человек прошел мимо забора и унес далеко свои сокровища.
— Володечка! Володечка! Владимир Григорьевич!
Воспоминания были почти проклятыми, но, когда он оставался с ней наедине, без соседского мальчика, они вдруг наваливались на него, и он вновь оказывался там — в саду бабушкиной школы для умственно отсталых детей или в их служебной учительской квартире, где в одной комнате жили запахи сосисок и первых масляных красок.
— Вы закончили?
— Я не уверена. Но уже слишком темно. Мне нужно ехать.
— Да, сложите инструменты.
Инструменты его учеников были его инструментами. Он не любил в своей мастерской чужих предметов. Они разрушали. Кисти, карандаши, бумага, ластики, угольные палочки и акварель не могли приходить сюда без разрешения. Они могли брать его, но не могли приносить свое. Но девочка разрушала его среду. Она не приносила ничего своего, но, раз дотронувшись до предмета, лишала его прежней жизни. Предметы, особенно кисти, словно собаки, поверившие новому хозяину, еще не предавшему их, тосковали по ней и не давались в прежние руки с той же открытой доверчивостью, как раньше. Они сжимались и подскуливали, ожидая ее прикосновения. Он видел это, как видят все люди, слишком тонко и ярко организованные, научившиеся видеть мир не слабоумным, а наполненным тонкими смыслами и энергиями. Он видел это, так же как другие видят людей возле себя, деревья, товары в магазине, собственные руки и ноги. Он знал, какого цвета девочка, мальчик или их смех. Он видел, как кисти меняют его энергию на ее, он забавлялся этим, но сложил эти кисти в отдельный ящик, чтобы не путать с другими. Работать ими было достаточно трудно, они меняли движения руки, меняли линии на полотне, цепляли другие цвета. Не хотели слушаться. Но в этом противостоянии была особая сила, которой у него не было раньше, материал сопротивлялся, и художник стремился туда, к своим секретикам, разрывал их в школьном саду, в корнях акации, что-то шептал и зарывал обратно.
Леся оттерла грифель с тонких пальцев, надела кольца и браслеты с колокольчиками, потом передумала и бросила браслеты в сумку.
— Владимир Григорьевич, как я сегодня?
— Хорошо, завтра будем заниматься композицией, а то тебе листа не хватает, надо определять границы. Границы в белом листе — дело художника.
Когда сад заканчивался, начиналась граница. Между мальчиком и городом сияла проведенная им полоса. С утра город был меньше и был весь его. Но вечером, до того как ужином потянет из малюсенькой кухни, город и сад разделяла новорожденная полоса, которую переступить было невозможно. Мальчик сидел в зарослях акации и придумывал, как он вырвется за пределы, с каким криком он перенесется на ту сторону, где ограничений не существует, — огромный-огромный белый холст.
— Володенька! Иди кушать!
После ужина еще один урок музыки и еще один кубик на белом ватмане. Руки должны двигаться, инструменты не должны забывать своего хозяина.
Леся запахнула розовое пальто, перетянула его поясом и забросила на плечо сумку. Пальто было совсем не розовым, скорее уж синим, но сияло именно розовым. Он отлично различал эти розовые частицы во всех остальных, каким бы цветом их ни замазывали, они вырывались на свободу: здесь розовые, там зеленые. Преодолевали свои границы, рассеивались в бесконечное пространство, невидимое другим. Неслышимое. Ноты он давно позабыл, они превратились в невесомые световые образы и появлялись только в концертных залах. Инструмент был давно продан, музыкальная школа не закончена. Рисованию нужно было уделять все больше и больше времени, а врачи советовали выводить мальчика на прогулку как можно чаще. Нужно было дать ему больше пространства, и фортепиано под громкие, едва скрывавшие радость крики мальчика и собачий лай покинуло маленькую учительскую квартиру. На его место поставили трюмо, а на место трюмо — небольшое кресло и тумбочку. Кресло немедленно заняла собака и заснула, пуская счастливые слюни.
Лесю он увидел в четверг возле картины Брейгеля Адского. Она смеялась. Ученица была близорука, и сначала картина показалась ей мирным катанием на коньках, но, впихнувшись почти носом внутрь, а потом в название, она охнула на весь зал и снова засмеялась. Он спрятался, чтобы не мешать. Не навязывать ей своего мнения, а заодно оценить, как она смотрит картины, и, если понадобится, научить чуть позже. Он сразу понял, в чем дело, и, когда она покинула зал, подошел и прищурился — картина ничем не напоминала о трагедии, она не зря смеялась. Учитель отступил.
Одноклассники заливались от смеха. Учитель рисования был странный. Из него не вышло успешного художника, да и к тому же часть слов он говорил с каким-то фонетическим вывертом. Смех стоял постоянно, но Эдвард Миртакович вообще не обращал на это внимания. Будь он таким вот второклассником, он бы и сам не выдержал. Где им еще смеяться? Смех — это свобода.
— Дофтали альпомы, теди! Начинаем риповать Вальера.
Слова для него были перевернутыми и недоступными. Они словно издевались над ним. Виной тому стала травма языка. Совершенно буквально ему в детстве не повезло. Игра во врачей с соседскими детьми закончилась травмой, впрочем, писал он всегда на «отлично», а сосед стал поваром, открыл ресторан и всегда кормил своего корявого друга бесплатно. Дети старательно вырисовывали в альбоме непонятного Вальера, грызли карандаши. Володя опять бездельничал: смотрел в окно, перекладывал карандаши, резал ластик на пульки и вздыхал.
— Ты! — Эдвард Миртакович ткнул пальцем в белый лист. — Офять! Хте плюст?
— Скучно, — искренне сообщил Володя и вспомнил про свой сад.
— После фнака! Мне потоешь!
— Хорошо.
Володя никогда не смеялся над ним. Почему? Это очень смущало. Лучше бы он хохотал вместе со всеми и искажал французского философа. Он сел и стал смотреть в окно: здесь розовый, здесь зеленый. Читать и рисовать — говорить очень трудно. Мальчик подошел к нему и положил на стол папку. Учитель развернул.
— Мофесь не плиподить ко мне, софмен. Полян? Я славлю тебе отпнично.
— Да.
На всякий случай Эдвард Миртакович взял бумажку и написал: «Ваш ребенок освобожден от моих уроков рисования. Он талантливый художник. Мне его учить нечему. Отлично».
— Маме. Ты не фипач фанишку.
— Хорошо. Передам маме, читать не буду. Секретики!
Эдвард Миртакович улыбнулся и застыл: много лет спустя маленький Володя заберет своего странного учителя к себе в большой вуз преподавать колористику, устроит ему выставку и разрушит границы случайной врачебной ошибки.
Леся забыла в мастерской свою маленькую папку. Обычно у таких девочек-художниц большая тонкая сумка, набитая разного размера эскизами. А у нее все было сложено в маленькую папку, свернуто пополам, так вот небрежно; собственно, это и папкой было назвать нельзя — свернутая пополам старая картонка, вся в жирных пятнах, вокруг которых тоже были какие-то рисунки и слова. Мальчик, сын соседа, развернул папку и рассыпал рисунки. Они заскользили по полу, а некоторые даже перебрались под диван. Так что пришлось ползать по полу и выуживать их, распластавшись на нем, словно можно было стать плоским, диван пришлось двигать. Владимир Григорьевич собрал их и положил на полку под пресс — огромную морскую гальку, бабушка использовала ее как груз для квашения капусты. А потом Леся придумала, что это для квашения рисунков: зреют под прессом до появления нужного цвета. Рисунки Леси он решил посмотреть завтра, сегодня нужно было еще поработать самому. Хотя цвет Брейгелей впитался настолько, что было опасно, поэтому Владимир Григорьевич задвинул ширму, разделяющую рабочую зону от домашнего пространства, и раскрыл партитуру вальсов Штрауса. Играть он давно разучился, но читать партитуры, словно какие-то романы и саги, очень любил — это переносило его за границу такой обычной, в сущности, жизни.
Ученица не пришла, ни звонка, ничего. Исчезла. И умер Джаид. Владимир Григорьевич ушел на похороны. Потух его цвет. Владимир Григорьевич задумался прямо в зале, глядя на все еще яркую, рыжую бороду своего коллеги, друга... Не говорить Лесе? Не говорить ей, потому что она расстроится, перестанет смеяться и спрашивать, когда же придет пират? Он сможет ответить, что как-нибудь зайдет. Он посмотрел мимо гроба на ту сторону и увидел ее.
Переезд из учительской квартиры был как «слава Богу!». «Ангелы сподобились переселить нас!» — так причитала бабушка, вытирая слезы, завязывая узлы, заворачивая в газету прозрачные стаканы, бокалы и рюмки, перевязывая коричневой шершавой веревкой стопы книг, разливая чай в немытые чашки и раскладывая селедку к вареной картошке — все время плакала. Володенька пошел в сад, чтобы выкопать свои секретики из земли. Но возле одной из прекрасных, уже распустившихся акаций он горько заплакал. Выходить за границу не было никакой возможности. Он рыдал так серьезно и сосредоточенно, что не заметил, как к нему подошел один из учеников школы и протянул носовой платок, что-то замычав, улыбаясь. Володя взял платок и ужаснулся: мальчик из школы перешел границу, он осмелился выйти к нему, прямо в пижаме, из тихого часа, чтобы утешить и проститься. Володя взял его за руку и показал все ямочки, где были его секретики. Мальчик шел за ним тихо, смотрел, кивал и загибал пальцы, а потом, когда они совсем расставались и оба понимали, что уже больше не войдут в прежние границы, они молча посмотрели друг на друга и разошлись. Сначала за границу выехали все вещи, а потом мама и бабушка вывели туда плачущего Володеньку.
Леся не плакала, она как бы растворилась в этой прощальной толпе, всем своим видом говоря: это не мое горе, я пришла, чтобы помочь кому-нибудь, мало ли что, у меня с собой и валидол, и салфетки с нашатырем. Владимир Григорьевич знал, что у нее все это есть, но знал он и то, что Леся уже выплакала свое горе, уже перешла в его границу и не готова пустить туда посторонних. Она хранит его только для себя, чтобы не беспокоить ни родственников, ни друзей, ни учеников. Она просто стоит, почти прозрачная, почти призрачная, впитывая уход Джаида как задержавшуюся весну, в которую лето еще не добавило ни жары, ни пыли. И только почти в конце церемонии Владимир Григорьевич с ужасом увидел, что ее правая рука, вся кисть в тяжелом гипсе. Он похолодел, внезапно ощутил какую-то радость, поняв, что спрятанные в ящик ЕЕ инструменты теперь умрут без ее прикосновений, а потом вернутся к нему. Он выморозился, как от присутствия потусторонней силы, и заплакал. Больно и отчаянно. Кто-то подхватил его под руку. Гроб опустился, и церемониймейстер отпустила всех. Он вырвался к ученице, но она уже исчезла.
Володя чувствовал ее энергию, ту, что была в ее инструментах, поэтому он втянул ее в себя, как когда-то запах акаций, и пошел по ее следу. Он мелькал между посетителями кладбища, собаками, разыскивавшими еду на могилах, и памятниками и наконец вывел его к автобусной остановке, где она стояла в очереди, прижимая к груди белую руку. Владимир Григорьевич выхватил ее оттуда и отвел в сторону.
— А поминки?
Леся посмотрела на него без слез и без отчаяния, со спрятанным горем и сказала, что в этом году уже не будет к нему ходить, и поступать не будет, что гипс на два месяца, это если удачно заживут поломанные и порезанные пальцы, что, возможно, она больше не удержит ничего в руке, потому что нервы...
Мимо них пролетел огромный дятел и, не оглядываясь, исчез в кладбищенском лесу. Мимо понеслись огромные звуки, цветные полосы и скверные запахи, Владимир Григорьевич не знал, как можно соврать ей про неотчаяние и надежду. Он прекрасно понимал, он знал, как устроены руки, плечи, прекрасно понимал, что означала описанная Лесей подробность травмы. Бедная девочка! И как же тяжело ему стало, стало еще больнее, чем у гроба Джаида, потому что ушли от него сразу двое. Мальчик был, но совершенно чужой, способный, но совершенно холодный, а теперь он стоял и завидовал ее мужеству или отчаянию, потому что она останется там — в саду.
— Я уеду на дачу, буду там все лето, буду смотреть, буду как все. Речка...
Владимир Григорьевич покачал головой: новая дверь в искусство начинается с нового поиска границы сада, того сада с секретиками. Может, ей за лето удастся найти в себе что-то еще, а он зароет ящик с инструментами. Простится с ними. Сегодня уже не надо рисовать и рисовать, наука достигла таких высот, может быть, нет — даже, скорее всего, для девочки найдется калитка из этого сада. Тоска по границе и безграничность мира до забора, а после? Можно ли знать наверняка?