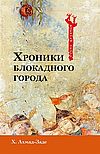Дщерь

Николай Алексеевич Ивеншев родился в 1949 году в селе Верхняя Маза Ульяновской области. Окончил Волгоградский государственный педагогический институт имени А.Серафимовича. Поэт, прозаик, публицист. Работал учителем в Поволжье и Дагестане, потом занимался журналистикой. В настоящее время работает режиссером поэтического театра «Мельпомена» на Кубани. Печатался в журналах «Москва», «Наш современник», «Дон», «Родная Кубань». Собкор газеты «Литературная Россия» в Краснодарском крае. Автор 30 книг стихов, прозы, публицистики. Лауреат премии имени А.Дельвига («Литгазета»), «Литературной России», журнала «Москва» и др. В 2005 году получил диплом «Серебряное перо Руси». Член Союза писателей России. Живет в станице Полтавской в Краснодарском крае.
Византийский шиповник
В затянутый тучами, прошитый дождями осенний день почему-то подумал о писателе Викторе Лихоносове. Наверно, потому, что проза его элегична, подернута осенней хмарью и озарена короткими солнечными всплесками.
Вспомнил поезд. Меня волновали тогда поезда.
И там впервые я читал Виктора Лихоносова юным, влюбленным во все: в почти голые осенние кусты, в девушку напротив, чистое лицо, круглые, детские еще коленки.
Вагон вздрагивающий, ободранный — и все же уютный. Может, из-за коленок, а может, из-за мужиков, шумных, как в моем родном селе.
Вздрогнув с шипением, вагон встал.
С перрона заливисто зазывали на вяленую рыбу, на пиво–раки. И так вдохновенно, как будто в Петровом Валу живут поэты.
Ленивые, сонные пассажиры тянули с вагонного трапа бумажки и мелочь. Я тоже было поднялся, отложил книгу Лихоносова «Люблю тебя светло»... Пряно пахнуло рыбой.
Пошел было к вагонному выходу. Но что-то туда меня не пускало. Книга.
Я продолжил чтение. И уже ничего вокруг не замечал.
Вот и всё. Это была первая встреча.
А ехал я в Краснодар по юношеской глупости. Наверно, начитался Паустовского, бредил вагонным движением. Шумом и гудками поездов, крепким запахом креозота от шпал. И, неловко сказать, ходил на Волгоградский вокзал глядеть на пассажиров. Просто глядеть, завидуя. У них была нескучная жизнь. Так, усевшись на фанерной желтой скамейке, я задремал. А очнулся от какой-то чудной речи. Она была русской, но и странной, с чудными грубыми словами, чудеса в решете — в них таилась нежность.
Разговаривали, балакали кубанцы.
И я уже на вокзале моментально как-то решил. Вот где надо жить. И, кое-как, поспешно собрав чемодан, рванул туда, очумев от одинокого дагестанского учительства и... постылого пустынного пейзажа солдатской службы на ракетном космодроме Капустин Яр.
На Кубани я сразу сделал два открытия, равных открытию Америки или изобретению велосипеда. Оказывается, здесь находится та самая Тамань, которую заклеймил Михаил Лермонтов словосочетанием «скверный городишко». Она, эта Тамань, существует и в самом деле.
Только была уже станица, а не город.
Второе открытие: здесь, в южном городе Краснодаре, обитает певец Сибири и «брянских» Виктор Лихоносов.
Жив-здоров. И книги пишет. Тогда не говорили «тексты» — книги.
Вскоре мне пришлось убедиться и в первом, и во втором.
Станица Тамань пахла тогда сожженной ботвой и давленой виноградной ягодой.
Да, здесь судьба проносила поручика Лермонтова в крепость Фанагорию.
Лермонтовские дни в Тамани. Так назывался праздник в начале октября. Я на него попал. Видел кованый сундук в хате Царицихи. Его подробно осматривали охмелевшие от морского и винного воздуха писатель Андрей Битов и актриса, вдова Василия Шукшина. Они попеременно цокали. У колодца рядом с хаткой Битов сказал, что Лермонтов пророк и провидец. И пропел вполне сносно: «Спит земля в сиянье голубом...»
Да, Тамань существовала. А вот контрабандистов, ундину и слепого Янко встретить не привелось.
Убедиться же в существовании Виктора Лихоносова мне помог поэт Михаил Ткаченко.
— Едем в Пересыпь, к Лихоносову! — Кудрявый, цыганисто-красивый — его за глаза называли Будулай — радовался.
— Нас не звали! — возразил я.
— Мы закуски с собой привезем, в мешках! — так Михаил оправдывал наш непрошеный визит. Так поступают только русские.
К нам прицепилась еще пара поэтов из Краснодара.
В широком дворе летней резиденции Лихоносова на широкий стол мы вывалили мешки: свои крендели и своих копченых куриц.
Но Лихоносов не смутился. Хотя, конечно, не ждал.
Лихоносов, так себе мужичок, в клетчатой рубашке, седая кудель волос, стал говорить о близких вулканах. И что-то зеленое нет-нет да и плеснется в глазах. Не писатель — сантехник.
— Вулканы тут. Работают. Вот вулкан Блювако. — Лихоносов взмахнул клетчатым рукавом. — Пыхтит. — Он отвел глаза, задумался. И крякнул неуверенно: — И мне работать надо, и вам!
— Блювако! — удивился Ткаченко. — А я думал, Плевако, в честь известного юриста.
Той же ладонью Лихоносов запротестовал:
— Блю-ва-ко!
Он взглянул на брата Михаила Ткаченко — Петра:
— А ты на Гришку Мелехова похож.
И тут известный писатель вынес из хаты несколько пластмассовых разноцветных ведер. Мне досталось синее.
— Пока суд да дело, айдате на сбор полезных сердцу ягод! Шиповника, боярышника. Шиповник расслабляет нервы, а боярышник дает ритм.
И все потопали в сторону вулканических шишек.
— Не активные! — успокоил писатель.
Мне досталось собирать колючий шиповник.
Он собирался плохо, потому что я во все уши слушал Виктора Лихоносова, рассказывающего о поездке в Иерусалим. О том, как «вот уже покойный Володька Солоухин припал к Гробу Господнему».
Шиповник расслаблял всех.
Я вспомнил, что где-то читал, как к Шолохову ездил молодой писатель Серяков. И Михаил Александрович заставил его три дня полоть картофельные грядки в огороде. И жуков давить. Наверное, у маститых прозаиков манера такая. Вначале — материя, потом — дух.
Хорошо хоть Лихоносов рангом ниже. Жуков не будет.
В свое синее ведро я накидал-таки алых ягод. Одну треть емкости.
Оглянувшись на писателя, у которого из ведра не слышалось ягодного проклевывания, я увидел невероятное.
Лихоносов упал на колени, а потом лег на бок и ухом прижался к серой, седой земле. Но ведь не Гроб же Господень рядом. Степь с наперстками вулканов.
— Тише! Тш-ш-ш!
Оказалось, что писатель услышал далекий гул от копыт византийской конницы.
— Здесь стоял дворец с колоннами, звуки-то остаются. На века, — сокровенно пояснил Виктор Иванович.
Все сделали строгие лица. И согласились. Почти согласились, потупились.
Мягко и смутно улыбнулся Лихоносов, думая о чем-то своем. Он уже не был похож на сантехника. А со сщуренными белесыми ресницами — на любимого в детстве пирата.
— Да, да, Византия. А точнее — византийская провинция.
А потом мы пили сухое красное вино в широком дворе Лихоносова. Отщипывали мясо от кур.
Я взглядывал на кустистые брови писателя, на резко очерченные скулы, на свитер в затяжках — и хотел это запомнить. Как же можно, такой простой, обыкновенный. И пишет так, что сердце щемит.
Лихоносов говорил о свободе литературы. Мол, теперь-то, избавившись от коммунистических оков, словесность заживет. Еще он сказывал, помнится, о писателе зарубежья Борисе Зайцеве. Имел переписку с ним. Так и сказал: «Имел». О забытом романисте Эртеле. И немного совсем о своем будущем романе. О казачестве, об атамане Ящике, охраннике царя Николая.
А вино разбирало. Или сбор шиповника действовал.
Брат Михаила Ткаченко Петр, с лицом, похожим на шолоховского Григория Мелехова, вдруг сказал:
— Да. Точно! Я тоже Византию слышал, там, у ягоды. Топот копыт. Яркий, яростный. — Петр смуглой ладонью вытер пот со лба.
— Четкий топот! — поправил Петра Лихоносов. В нем преобладал пират. Не сантехник.
Виктор Иванович Лихоносов спустя время сочинил роман о казачестве, назвал его «Мой маленький Париж».
В романе многие увидели прошлый Краснодар. То бишь Екатеринодар. Фамилии в романе казачьи: Толстопят, Костогрыз. Для чужого уха потешные. Но це — грубая музыка украинской мовы.
Роман стали хвалить. Издавать в серебре, золоте, слюде.
Сравнивали с «Тихим Доном». Это, мол, кубанский «Тихий Дон».
Когда это слышал Виктор Лихоносов, то соглашался: «Да-а-а-а». Однако это его «да» было похоже на «нет».
И хвалители — читатели, властная челядь — так и не поняли главного. Роман иной. Лучше, хуже «Тихого Дона» — кто судить-то может. Сюжеты, стиль. «Мой маленький Париж» иное чтение.
Что ж, прижмусь ухом к земле и выскажусь:
— Это магическая проза! И если уж сравнивать, то со «Ста днями одиночества» Габриэля Гарсии Маркеса. Фантазия, посеребренная, как ивы над прудом, вольная сказка. Он ведь там был, мед и пиво пил.
Люди без фантазии не могут хорошо и правильно читать «Мой маленький Париж». Некоторые даже вверх палец тянут: «Ошибался Лихоносов, исторически не выверено. То не так, там не этак. И язык... оставляет желать... Чалдон он, сибиряк».
А вот и нет. И не тупите взоры, не опускайте глаза. Где-то Лихоносов все это слышал. И Костогрыза, и Толстопята. Клянусь, там, у карликовых вулканов, Лихоносов — даки, будущие румыны, греки, византийцы — слышал доисторическую конницу! Он слышал не только топот копыт, но и звон сбруи и шелест шелка писаных красавиц.
И я слышал!
Шиповника набрал с полведра всего.
— Чересчур много, — похвалил меня Лихоносов, плеснув то ли зеленью, то ли синью глаз. — Вот Достоевский мечтал, чтобы Византия наша была. А она и была нашей, всегда! И шиповник, и боярышник оттуда проросли, византийские.
Год сурка
Захватили соли, картошки, хлеба. И котелок, естественно, вырезанный из большой банки из-под джема яблочного.
А еще воду, целую канистру, и, увы, дубинку дяди-Колину.
— Только я не буду его, как ты говоришь, по кумполу, давай ты, — сказал Саша.
— А чё я? Хуже рыжих? — скривился брат, но спустя минуту снисходительно улыбнулся.
Костя — младший брат. Младшие всегда кажутся старше, опытнее.
Опыта Косте не хватило. И он жахнул сурка вскользь. Грызун оказался жив, хоть и сковырнулся как миленький.
— Бей же его, бей! — закричал Костя, сунув дубину Саше.
И мальчишки поочередно, зажимая глаза, которые разъедали слезы с песком, стали колотить животное по бокам, надеясь не убить его, думая, что сурок подскочит и убежит.
Но животное вдруг онемело, стало другим совсем. Каким? Этого они не знали.
— Мы — мужчины! Охотники! — успокаивал младший брат. — А если внимательно вглядеться, то это вокруг — прерия.
— Прерии! — поправил Сашка.
Брат рассмеялся:
— А ты не Семенов Саша, а Семинол.
Костя фантазер. И он так умеет прятаться, играя в тюк, — никто не отыщет.
Тюк — это прятки.
Самое сложное было разделать тушку. Но у Саши был тесак, подаренный тем же дядей Колей Власовым, сельским пастухом. Кое-как содрали шкуру. И втискали вялого сурка в свою желтую банку из-под повидла. Костер разжигать и укреплять котелок они умели. Но сурок варился долго. Они щупали добычу дяди-Колиным тесаком.
Ложку взяли одну. Алюминиевую. Легкую. На дубинке, охватывая ее пальцами, определили, кто будет первым хлебать. Тот, кто последний кулак покроет.
Оказалось — Костя. Он опять криво усмехнулся и опять снисходительно, с небрежностью взял ложку.
Саша ел неохотно, хотя шулюм с картошкой оказался довольно вкусным. Ел, думая о пропавшем из этих прерий сурке. Пропал, и всё, больше такого не будет... с черным галстуком на шее. Думал и вошел в охоту — аппетит прорезался.
— Я слышал, сюда из Москвы приезжают за сурками, — к чему-то заявил младший брат и в который раз засмеялся.
— Зачем? — спросил Саша.
Он знал зачем, но спросил. Он понял, что брат переживает. Ведь они стали убийцами.
— Лечатся! Мясо сурка — лекарство.
Наконец шулюм был вычерпан. Мясо так и осталось лежать в подгоревшей банке. Захватят домой, угостят мать.
— Ты Зинке своей отрежь, — предложил Костя.
Они лежали на горячей серой земле и смотрели на исчезающие облака. Облака плыли на другую сторону Земли, где царствует не созвездие Большой Медведицы, а Южный Крест. Так было написано в одной чудной книге.
— А какая она, твоя Зинка? — спросил Костя у брата.
— Хорошая! — ответил Александр.
— А глаза?
— Глаза — как у всех. Тоже хорошие. Отстань!
И они стали собираться домой.
Эта картинка лезла в глаза давно. Ляжет — и уже перед глазами. Здрасьте, приехали! А иногда и так — впору к врачу записываться. Да и что ему скажешь? Стыд. Как суслика дубасили.
Наконец Александр Васильевич Семенов не выдержал и кинул брату сообщение. У брата был старый кнопочный телефон. Написал брату: «Жди. В четверг, двадцать девятого, приеду».
Поезд долго тряс его, а потом выкинул на станции Паньшино. Туда, где возле речки, рядом с широким американским кленом одиноко проживал брат.
От Кости давно ушла жена. Он ей оказался не нужен. И Костя ждал пенсии, подрабатывая тем, что чинил розетки и выключатели у оставшихся в селе старушек.
Было утро. Клен у ворот не шелестел. Он мокро чавкнул вслед.
Дверь оказалась не запертой. А изба — пустой. Хотя в ней стоял живой запах. Пахло полынным веником и чем-то вроде жареной картошки.
— Брательник! — крикнул Александр Васильевич, почувствовав себя молодым и веселым.
Никто не отзывался. Еще крикнул. Глухо.
— Шу-у-у-у-у-утишь, — подвыл Семенов. — У-у-у!
Опять тихо.
«Как в детстве, в тюк играет, — решил Александр Васильевич. — Шутник». Ему вспомнился недавний ветхий вагон. И старичок-сморчок, который жевал и жевал свои губы, как будто пытался сам себя изничтожить. Старичок этот, наверное, в воду глядел. Прошамкал, сося синие губы:
— Ц-ц-ц-ц! Люди проп-п-падають. Ц-ц-ц! Это — проп-п-падение пропадом.
— Что такое? Поясните, — спросил у сморчка Александр Васильевич.
— А как грибы. Пропадають! Под листьями прячутся. — И резко отвернулся к вагонному окошку, считая пролетающие столбы. — Айн, цвай, драй!
Колдун.
— Костя-а-а-а-а! — закричал, уже злясь, Семенов.
За окном кто-то громко чавкнул, как будто половую тряпку уронил. Семенов подумал: «Клен».
Клен этот Костя почему-то звал Маришкой. Как и жену.
Александр Васильевич заглянул в чулан, где брат всегда пил чай. Рябой чайник — отбитая эмаль — стоял на плите почти полный. Вода в нем была остывшей. Окалина на дне. Окалина-то и подсказала: «Жив брат!» Врешь! Нас, Семеновых, не сдвинешь трактором! Может, на рыбалке. Костя мало внимания обращал на житейские мелочи. От этого и жена от него ушла. «Пропала! — уточнил по кнопочному телефону брат. — Испарилась!»
Давно уж это было.
В углу чулана, под зимним свитером, проглядывал лакированный и потрескавшийся бок гитары. Значит, давно в руки не брал.
Надо дождаться полного дня, тогда брат и появится. Шутник, едрит. В тюк-тилюлюк играет.
Но к одиннадцати часам никто калитку не открыл. И клен с женским именем Маришка стал уже шуметь, шевеля листочками.
Александр Васильевич отправился к Леонтьевичу, шабру. Так у них в Паньшине звали соседа. Леонтьевич, старик, узнал Сашку Семенова, равнодушно хлопнул раза три в ладоши, приговаривая:
— Не узнал, не узнал! — И растер руки. — Был, был Костик. Видел. Окно светилось. Вот те крест, Саня. Или Александр Василич уже. Давно Александр Василич, — протянул уважительно. — Но уж давно-о-о не встречал. Где, где? В сратосфере. У каждого — дела-а-а-а! Ты не знаешь, что там, в Кремле-то? Думают повышать?
Глаза у Леонтьевича совсем белые. Выцвели.
— Думают! — ответил Семенов резко, чужим голосом.
От Леонтьевича проку не было.
— Ты к Пелагее Слепцовой сходи. Она у нас все знает. Жучара еще та.
Пелагея, как старик в поезде, пожевала губы:
— Я уж и сама стала думать, куда Костик делся. И карты кинула. Нет его на картах. Крестовый он по масти. Пропал малец!
Мальцу тому было за пятьдесят. «Пропал!» — подумал Александр Васильевич.
В местном магазине никто ничего про Константина Васильевича Семенова не знал. Только все — и редкие покупатели, и красивая, с вытатуированной на руке рыбой в серебряной чешуе продавщица — радовались:
— Был, был, был!
Мужик с фиолетовым лицом процедил:
— Удавился он!
Его вытолкали. Пьяндалыга.
Семенов понял вдруг, что устал. Прилечь бы. «Как — был?» — думал Александр Васильевич, кутаясь в братово клетчатое одеяло. Он третью ночь спал на его постели и чуял запах Кости. «Как — был?!»
Запах — как в детстве. Слегка полынком.
— И жизнь была, — сказал сам себе Александр Васильевич Семенов.
Попытался уснуть. Но в Костиной избе уже грибы чудились. Они с Костей тоже ходили за маслятами. И Косте, как всегда, везло больше. Братишка набирал целый бабушкин подойник скользких, липких, загорелых, каких-то нерусских грибов.
Грибы пахли ярко. Действительно, заграничные.
— Чем пахнут? — спросил тогда Саша.
— Амазонкой! — ответил брат.
Он глядел вдаль, сквозь сосны.
Действительно, стоит отвернуться, как грибы исчезают. Тюк-тилюлюк.
Если покумекать, Александр Васильевич ведь тоже отвернулся от брата. По большому счету тоже. Зачем писать, зачем разговаривать по телефону, зачем ездить в такую даль? Брат? Давно уже все потеряно. Давно. Не враг, конечно, а так... У Александра Васильевича своя семья, дети взрослые. Зачем? Не вспоминать же про эти грибы. Или про злодейство — как дубасили сурка. И Зинку ту. Хорошие глаза. Порешили Зинку в городском подъезде. Ножиком, заточкой... А пальчики у нее были тонюсенькие, выточенные... Н-да... А потом, когда шли домой, сытые, все дурачились, кривлялись: «День сурка, год сурка!» Как американцы какие. А Костик все бубнил:
У Лукоморья дуб срубили,
златую цепь на нем разбили,
кота на мясо изрубили,
русалку паспорта лишили...
Семенов встал с постели, зажег электричество, порылся на книжной полке. Брат читал. И Александр Васильевич нашел красную книжку с пожелтевшим срезом «Оцеола, вождь семинолов». И подумал с кривой, жалкой улыбкой: «В прерию махнул братишка! Под Южный Крест». Вроде бы улыбнулся поспокойнее, объясняя сам себе дурацкую мысль. Знаем мы эти прерии! Эх-х-х! Завтра с утра надо уже бежать на станцию. Домой, домой! Домой! Здесь — своя жизнь, у них. Там — своя. Жи-и-изнь! Жена звонила, у нее вечный пожар. И легинсы порвались... Вечно пожар!
Маришка за окном расшумелась. Расшумелся!
Костя гладил дерево, когда уходил куда-нибудь.
А дяди-Колина дубинка тогда так и осталась возле потухшего костра, где они сурка варили. Не хотелось забирать это орудие убийства домой, тащить ее. В крови дубина, в бордовых крапинках да в пурпурных кляксах.
Дщерь
Дщерь (так он звал свою дочь, давно забыв ее имя) отмахивалась, как от комаров. При этом глаза ее прыгали по комнате, как шарики от настольного тенниса:
— Так я и знала, так я и знала! Что ты будешь сопротивление держать! Ты ж Брестская крепость — не отец.
Она сжала губы. Глаза остановились с каким-то белым каленьем и уже не гасли.
— Заберем только тебя! А эту рухлядь — на по-мой-ку! Котам на развлеченье. — Видно было, что она жалела отца, но у нее свои идеи. — Сейчас пространство нужно, чтоб не задыхаться в гнойнике.
— И пианино на помойку?!
— В первую очередь, Степан Ильич!
В некоторых местах своей жизни дщерь звала его Степан Ильичом.
— Ты ж играла... Бетховена! — И протянул: — «Сурка»!
Дщерь резко ударила словом:
— Я вообще-то на гитаре хотела — это вы с матерью настояли, а теперь мне «биры-бары», как дед говорил. И книги туда ж!
— И книги, дщерь?
Тут он опустился на разлапистое кресло: видно, боялся ответа.
— В первую очередь! И книги. И книги! Бюджет не позволяет.
Установилась мертвая тишина. Она прорвалась голосом Степана Ильича:
— Так они есть не просят!
— Просят!..
Пролепетал:
— Во вторую... Во вторую.
— Какая разница? Во вторую. И кресло твое. Кошатиной воняет...
Хозяин квартиры, которую решили продать (и уже нашелся покупатель), достал из нагрудного кармана перетянутые лейкопластырем очки. Протер их платком и решительно воткнул в переносицу. Он — мужчина, а не старик! Но, увидев опять раскаленные глаза дщери, увял и стал втираться в кресло, будто хотел в него влезть с руками и ногами. Туда, к пружинам.
— Только тебя и заберу. Ну, может, две-три книжки. Чехова, — равнодушно проговорила дщерь. Устало даже.
— Почему Чехова? — Он опять снял очки, вглядываясь в лицо дщери.
— А!.. — пробормотала она и усмехнулась. — В человеке все должно быть прекрасно: и душа, и мысли. А разве здесь у тебя, Степан Ильич, прекрасно? Тараканы гавот шпарят, сверчки на скрипках наяривают... Неделю дано на всё про всё. На все сборы.
Дщерь решительно отщелкнула блестящий замок сумочки и вынула оттуда зеркальце. Поморщилась, глядя в него:
— Через неделю — фьють... Документы уже готовы будут, подпишем, батянь, и — фьють. Ты в рай попадешь. Мы тебе уже комнату прибрали. Мой-то назвал ее кубриком!
Эту неделю Степан Ильич прожил в горячке. В бреду. Пианино пристраивалось плохо. Старое оно, желтое, «Кубань» называется. И русскими буквами подписано. Знакомый хлюст Сашка Меркулов требовал за вынос пианино и за «пристройку» его большие деньги.
— Не боись! — хлопал по плечу Степана Ильича Сашка. — Не боись, старче. Я вон целую роту кошаков аптекарше просватал. Живут, мурлычут. А пианино, хоть с трудом, эка стопудовое, тоже — бумс-блямс — определю... Сто пудов. — И Сашка нагло рассмеялся.
Бог смиловался, повезло с пианино. Иван Харитонович Белоус, владелец черной лакированной машины — не авто, а крейсер «Аврора», — узнав про продажу пианино, даже приплатил Степану Ильичу. — Я его в гараже определю, места хватит. — И на ухо шепнул: — Была у меня одна герла, ох и острый каблучок, Нэл-лка, девица. На этом самом инструменте шпарила одним пальцем как десятью. Вот! Но вот зазналась. Видно, из-за ловкого пальца. Перестала со мной-то... дружбу, это самое... того-этого... А может, придет еще? В гараж...
Лицо бывшего колхозного бухгалтера — а теперь он черт-те чё, шишка — стало красным.
— Герла — это кто?
— Шмакодявица, фифа. А не придет... Буду на пианине запчасти ставить, колеса, колбасу с водкой. — И он вынул из кармана хорошие деньги.
А вот со вторым вопросом потуже. Совсем плохо. Уже поняв, что дщерь не сдастся, он стал прощаться с книгами, читать их поспешно. Читал — как рвал листы. Но понял: это все равно что море выпить. «Темные аллеи», «Записки сумасшедшего», «Рассказ о семи повешенных»...
Торкнулся было к соседке Вере Иванне, учительше:
— Возьмите Чехова с Алексеем Толстым за так.
Та глазами зырк, как помешанная:
— Еще чего, своих ртов хватает!
Уже в четверг утром к нему пришла идея: перевезти на велосипеде книги в библиотеку. В мешках. И Степан Ильич обрадовался идее. Книги ж должны люди читать. Люди! Не кошки с собаками.
Библиотека находилась на карантине, но все же его впустила тоненькая девочка на хлипких, обернутых голубой материей ногах. Девочка была ласковой. И голос ее звенел. Но звенел — как плакал:
— Не можем, Степан Ильич, свои книги девать некуда... Постановление!..
— Постановление, — бормотнул Степан Ильич и сполз с крыльца, держась за блёсткий поручень для инвалидов. Благо рядом инвалидов-колясочников не видать. Ему было жалко ноющего кузнечика в голубых штанах. Закусают ее, голову отчикают! Ведь волки кругом.
Осознание того, что волки кругом, придало владельцу библиотеки некое равновесие духа. Это не он — Брестская крепость, а дщерь. Пора сдаваться... И надо вот как действовать. Ночью! Уложить книги в стопки, перевязать их крепкой бечевой. По алфавиту, а может, и по значимости. Достоевского с Толстым в одну стопу, Грина с Александром Беляевым в другую. Перевязать, доставить к ящикам с мусором. И аккуратно рядом поместить. Кому книги нужны — возьмут! Не у всех же дщери несгибаемые... А эта его дщерь все ж успокаивала потом, по-своему. Розовым ноготком клюнула запястье:
— Я, Степан Ильич, с врачом разговаривала, с Ковтун Марией Михайловной, она уж авторитет. В книгах, говорит, фаги заводятся. — И дочь цыкнула: — Утри слезу!
Он высморкался в платок.
«Фаги-фиги», — осерчал Степан Ильич, но к субботе привел свои нервы в порядок. Определил время: в два часа ночи по улице никто не ходит. К этому времени уже и Манька Меркулова успокоится со своими песнями: «Я иду такая вся в Дольче Габбана...»
Вначале Степан Ильич вышел за калитку, оглядел простор, уколол ноги репьем. А потом вернулся к книгам, стал их чалить. Как капусту поливал. Сколько времени он это делал, оглядываясь, озираясь, — не помнил. Помнил, что по пути сердце терял. Оно где-то болталось в волосатой темноте, но нет-нет да и возвращалось на свое место.
Луна небрежно освещала мусорные контейнеры. Даже надпись видно: приказ «Люби станицу!». И он ладно пристроил книги — не к ящикам, а к железному забору.
Домой вернулся, и вроде как полегчало. Но дома пусто. От пианино пятно, краска под инструментом была как новой, коричневой. И книг не стало. Как ветром сдуло. Врали в газетах и по телику, что книги — душа, без них жизни нет... А действительно, есть ли жизнь без них...
Степан Ильич постарался уснуть, скоро рассветет...
Уже темнота в почти пустой проданной комнате Степана Ильича стала проходить. Уже и часы на стене ясно вырисовались. Отбили четыре. В половине пятого Степан Ильич вспомнил: ведь дщерь-то разрешила штук пять книг с собой. В новый «райский» угол. В кубрик. А он и забыл про это. Уже светло, скоро люд на работу тронется. Степан Ильич решительно, как тот самый мифический фаг из книги, выскочил из калитки и вздохнул вслух:
— Никого.
Вприпрыжку, как только ноги тянут, побежал в сторону мусорки. В голове было мутно, как в пруду после дождя, и там, в голове, реально всплывали буквы и звуки. Звуки как за стеной. Кого же зацепить, распутать, вызволить? Толстого «Кавказский пленник»? Пушкина «Дочку»? Лез еще в голову Мережковский. Он шмелем жужжал в ушах. Так и не решив, кого взять, с испуганной душой Степан Ильич подергал посылочную бечеву на стопках книг. И выбрал точно пять. Но незнаемо каких. Все книги хороши. Не приведи Господь, кто-то увидит его за этим стыдным занятием. «Стыдным разве?» — удивился сам себе Степан Ильич.
Дочь забрала его к себе на житье только дня через два. Явилась на иномарке, которую купила на вырученные от отцовской хаты деньги. Дщерь была нарядная, шелестела тонкими юбками. Она пахла сладкими духами и так же сладко улыбалась Степану Ильичу.
— Не переживай, пап, все будет в шоколадке, в «Аленке». Располагайся, Степан Ильич, располагайся удобнее сзади. Откинься. Кум королю, сват министру. Пей пепси. В нос шибает. Сегодня сбрызнем тачку-то. — Дщерь погладила руль, как совсем недавно его руку. — Новьё. Новьё! Я помню, пап: «И мой сурок, и мой сурок со мною...» Помню, пап.
Степан Ильич расположился на заднем. У него было белое, мучнистое лицо. Мимо двигались мужики, тоже почему-то с седыми лицами, и женщины, очень похожие на дщерь, просто в разных футболках. Проехали степенно и мимо мусорки. Стопки книг, прислоненные к забору, были слегка разворошены. Некоторые — нетронуты. На одной пачке качалась черная, обмытая вчерашним дождем ворона.
Воспитанник советской системы, Степан Ильич в существование Бога верил. Верил, конечно... И все же сомневался. Как же это Бог недоглядывает? Уже у перекрестка он обернулся и увидел, как плавно убегают от него книги. Его книги. Степан Ильич твердыми пальцами перекрестил их. Так внушительно крестят богомольцы родного человека, отправляя его в путь-дорогу.