Рецензии на книги: Марина Соловьева. Усохни, перхоть, или Школа, кото-рой больше нет: Школьная сага для детей и родителей. — Оксана Вася-кина. Рана. — София Максимычева. Зелёная шаль. — Дмитрий Мизгулин. По кромке бытия: Седьмая книга стихотворений
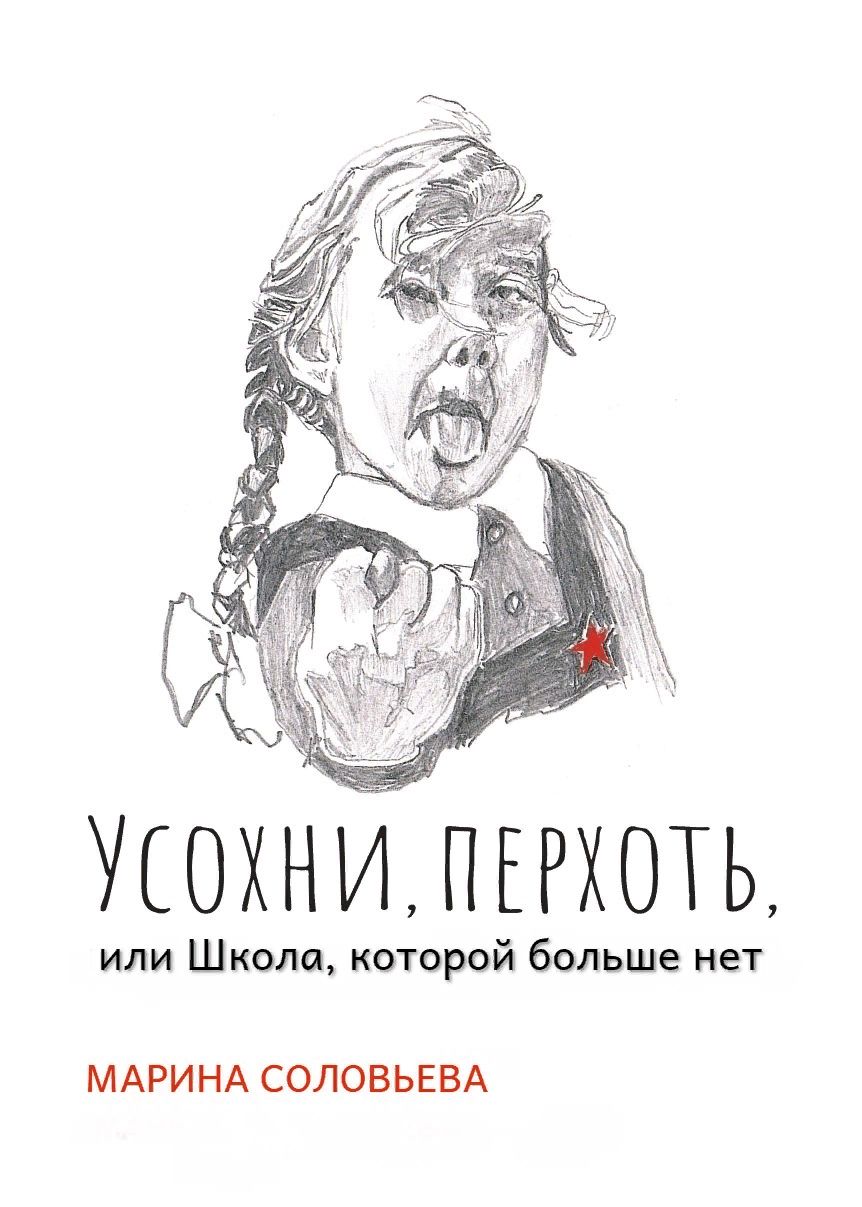
Марина Соловьева. Усохни, перхоть, или Школа, которой больше нет: Школьная сага для детей и родителей
Некоторые писатели дебютировали книгами о своем детстве, как, например, Лев Толстой («Детство») и Сергей Аксаков («Детские годы Багрова-внука»). Другие, наоборот, приходили к теме детства уже на пике своего писательского мастерства — Иван Бунин («Жизнь Арсеньева»), Николай Гарин-Михайловский («Детство Тёмы»), Максим Горький («Детство»), Владимир Короленко («История моего современника»), Алексей Толстой («Детство Никиты»). Как бы то ни было, а эту тему не обошел ни один из крупных писателей.
Нижегородский прозаик Марина Соловьева тоже дебютировала романом о детстве, точнее, о «школьных годах чудесных», и это ей удалось. Любой читатель, оценивая книгу, прежде всего отвечает на вопрос: про меня это или не про меня? Далеко не всем бывает интересно читать, например, о жизни ковбоев в начале девятнадцатого века. А вот когда в произведении описываются предметы и явления, которые ты сам очень хорошо видел, да еще и не раз, это вызывает неподдельный интерес, и книга прочитывается на одном дыхании, даже если язык произведения не слишком изыскан и своеобычен. Могу сказать сразу: все, о чем пишет Марина Соловьева, — исключительно про меня. Может быть, потому, что я учился в семидесятые годы в советской школе.
Герой романа, самый простой советский мальчишка, сталкивается с самыми разными людьми, которые описываются автором в духе академической живописи — без какой бы то ни было романтизации. Прозу Соловьевой никак нельзя назвать женской, и это скорее комплимент, нежели недостаток. Калейдоскоп портретов учителей впечатляет и чем-то напоминает описания помещиков в «Мертвых душах» Гоголя — все человеческие пороки и достоинства так или иначе живописуются автором. Герой романа на утлой лодке плывет между добром и злом, подчас не понимая, где настоящее, а где фальшивое добро. Учитель начальных классов, педантичная и обязательная Вера Николаевна, больше всего на свете уважающая порядок и дисциплину, на самом деле оказывается сухой, педантичной, авторитарной садисткой. Одинокая в личной жизни, совершенно не востребованная в жизни социальной, Вера Николаевна упивается властью над маленькими детьми и убивает в них ростки таланта и всего того, что Евгений Баратынский называл «лица необщим выраженьем». Столкнувшись с неординарной и талантливой девочкой-отличницей, она специально занижает ей оценки, превращая ее в обычного, запуганного жизнью ребенка. Полной противоположностью «мучительнице первой моей» выступает преподаватель русской словесности «баба Клава», которая на примерах классической литературы учит детей не только думать, но и чувствовать. Яркий, искрометный учитель истории Михаил Душан, истероидная учительница пения Нонна Хоркевич, классный руководитель Маргоша — все эти персонажи настолько живо описаны, что остается только позавидовать мастерству пусть и немолодого, но только что дебютирующего прозаика.
Меньше всего мне бы хотелось назвать Марину Соловьеву бытописателем, хотя в ее романе очень много бытовых подробностей — это и сборы металлолома с макулатурой, подробное описание приема в пионеры и в комсомол, детальное изображение школьной дискотеки. Через многие бытовые детали конца семидесятых и начала восьмидесятых годов прошлого столетия проступает сложный характер мальчика, героя романа, который постепенно приходит к ощущению коллективизма как спасения от одиночества и мировой тоски. Не случайно автор так подробно описывает психологическую обстановку, возникшую в стране после смерти Брежнева, — простые люди страшно испугались, что после ухода из жизни больного, старого и уже не способного управлять страной Генерального секретаря спокойная и размеренная жизнь закончится и грядет мировая катастрофа. В романе совершенно нет никакой политики, но гуманизм советского строя проступает на каждой странице повествования, и начинаешь хорошо понимать, какую страну мы потеряли в 1991 году...
Марина Соловьева, несомненно, в большей степени психолог, нежели художник слова, поэтому читателю не стоит искать в романе особых языковых открытий. Однако чтение этого произведения, несомненно, дорогого стоит, и хочется поблагодарить нижегородское издательство «Книги» за такой подвиг — издание некоммерческого, но такого интересного и самобытного романа!
Евгений Эрастов
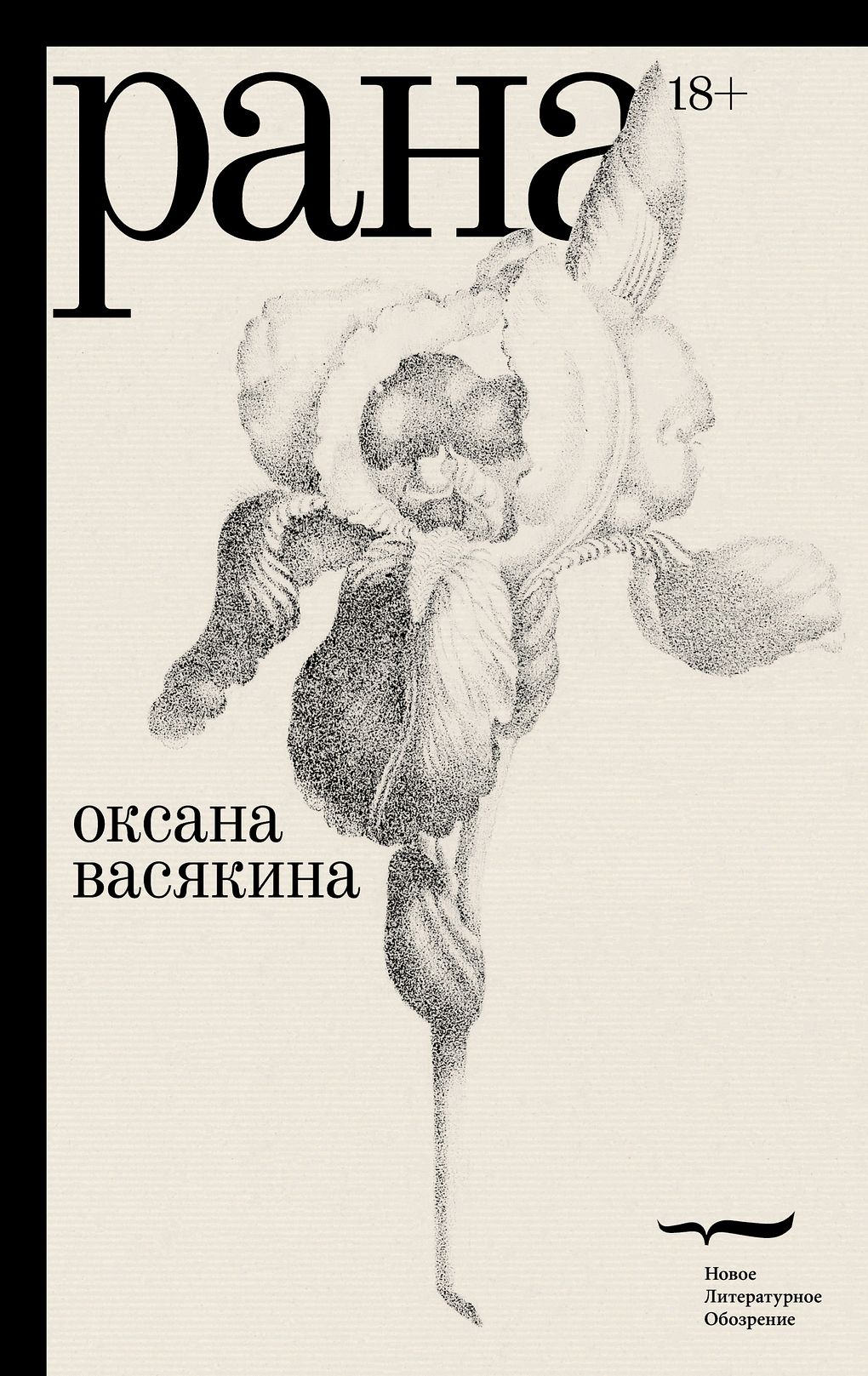
Оксана Васякина. Рана
Вышедший в 2021 году роман Оксаны Васякиной «Рана» почти сразу привлек мое внимание. Как я могла пройти мимо книги, в которой тема отношений со смертью — одна из ключевых в романе — вот уже много лет является предметом моих творческих раздумий. Однако ожидания, сформировавшиеся под влиянием массы положительных отзывов, оправдались не в полной мере.
Композиционно «Рана» разделена на пять частей. Текст романа неоднородный. Первая часть полностью прозаическая. Вторая заканчивается авторским стихотворением «девушки девушки». Третья, самая короткая, состоит из поэмы «Ода смерти», эссе «Записки о пергаменте и цветке» и нескольких прозаических фрагментов. В четвертой части — эссе «Клетки-ткачихи-паучихи» и «Язык Филомелы», а также длинное околоэссеистическое рассуждение о Геннадии Айги с вкраплениями из его стихотворений. Финальная же часть стилистически тоже больше напоминает философское рассуждение.
Начало романа наиболее удачно: это живое, напряженное повествование, наполненное чувствами — в первую очередь болью. Первые две части отличаются стилистической лаконичностью, хотя уже в них можно заметить склонность писательницы к самоповторам. В ходе повествования эта черта будет «прогрессировать», однако сначала Васякиной удается держать нить повествования и сохранять баланс между рефлексией и сюжетом, тем самым подогревая интерес читателя. С третьей части роман внезапно «преображается» и становится затянутым и сумбурным — возникает ощущение, что автор пишет через силу. Несколько раз проскальзывают слова о том, что ей нужно дописать до момента похорон, нужно закончить последнюю главу и т.д., хотя к этому моменту читатель и сам все понимает. Из-за чего возникают вопросы: зачем мучить себя и других? кому это нужно?
Помимо прочего, к концу повествования все чаще появляются пояснительно-извиняющиеся интонации: Васякину волнует, как читатель воспримет роман без нарратива. Что, как мне кажется, не имеет смысла, потому что те, кого повествование без нарратива не устраивает, вероятно, не дочитали бы до четвертой части. От «извинений» же создается навязчивое ощущение, что писательница пытается оправдаться. Меня подобные приемы отталкивают, потому что, когда автор так настойчиво просит прощения, я начинаю сомневаться в том, насколько хорошую книгу я читаю.
Наконец, утомленная вялым повествованием, я добираюсь до финала, который мог бы спасти ситуацию, но, увы, этого не происходит. В завершающей части романа героиня достигает гармонии с собой и с матерью. Однако в этот свалившийся с неба хеппи-энд не верится по нескольким причинам.
Во-первых, язык становится очень патетичным, кажется, что еще немного — и текст превратится в высокопарную дидактику. Подобный пафос мог бы сработать на контрасте с напряженным началом, но на своем месте он выглядит неоправданно претенциозным.
Вторая, не менее важная причина — внезапность такого поворота событий, без постепенного обоснования произошедшего, больше походит на некое откровение.
В-третьих, сам по себе финал напоминает философское эссе, что окончательно уничтожает любую динамику.
Включенным в текст романа произведениям других жанров (стихам и эссе Васякиной) невозможно дать единую оценку, поэтому их я разберу отдельно.
Надо признаться, что с поэтическим творчеством автора я знакома довольно поверхностно: пару лет назад меня очень впечатлил текст «Что я знаю о насилии», но этим все ограничилось. Первое стихотворение, «девушки девушки», на мой взгляд, удачнее остальных: оно не разрушает ткань повествования, не прерывает его, а главное — не уничтожает эмоциональное напряжение. «Ода смерти» показалась мне затянутой и довольно скучной.
Эссеистика выглядит гораздо слабее в сравнении и с прозаическими фрагментами, и с поэтическими текстами: она менее выверенная, менее искренняя, в ней гораздо больше умозрительного. Эссе «Записки о пергаменте и цветке» сильно проигрывает двум первым частям книги в динамичности, а «Клетки-ткачихи-паучихи» и «Язык Филомелы» тормозят и «разбавляют» и без того занудную четвертую часть. Хотя, если выбирать из всех трех текстов, я бы отдала предпочтение «Языку Филомелы» как наиболее точному и ясному.
Долгое время меня мучил вопрос, зачем вообще было включать эссе и поэзию в роман. Через некоторое время я узнала, что автор, как она сама признавалась, хотела рассказать о смерти все. Вероятно, именно это и привело к недостаточно строгому отбору материала, который я бы назвала главным минусом всего текста и трех последних частей в особенности. Идея рассказать все о чем-либо в рамках одного произведения искусства почти всегда оказывается проигрышной, потому что, вместо того чтобы выразить свою мысль единожды, но максимально ясно и стилистически точно, писатель раз за разом возвращается к одному и тому же, пересказывая уже написанное другими словами. В рамках одной книги это, во-первых, очень бросается в глаза, а во-вторых, надоедает.
Недавно я была на интервью с Васякиной в РГГУ, где, помимо прочего, она упомянула, что воспринимает «Рану» как книгу о любви, а не о боли. Если посмотреть на роман с такой точки зрения, то придется назвать его неудачным, потому что после прочтения во мне остались лишь тяжесть, грусть и усталость, ни одной и полумысли о любви. Хотя, конечно, не стоит забывать, что каждый понимает и проживает это чувство по-своему.
Однако, несмотря на мое негативное отношение к последним частям «Раны», Васякина кажется мне одним из наиболее интересных литературных явлений последних лет.
Мария Щавелева
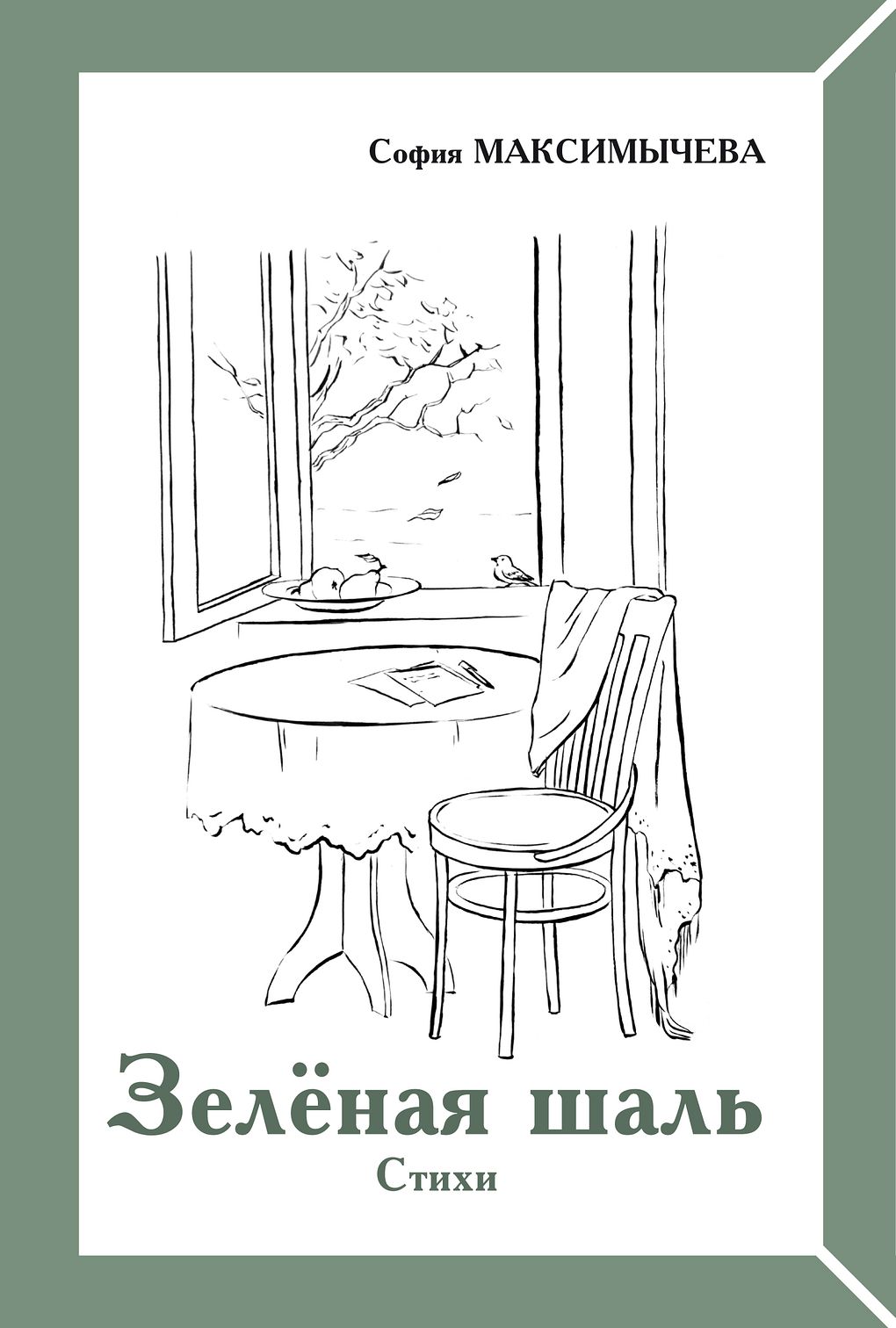
София Максимычева. Зелёная шаль
В образной речи зеленый драдедамовый платок[1] относится к символу любви и покрова Богородицы. Но если рассмотреть символику богослужебных цветов, то можно заметить, что к Богородице больше привязан синий, а вот зеленый считается цветом Святой Троицы, «приобщение Которой посредством Святых Таинств освящает человека и возрождает его к вечной жизни»[2]. Поэтому правильнее будет отнести образ зеленого платка не только к Богородице, но и к Самому Богу.
София Максимычева образ зеленого платка дает в первом стихотворении дебютной книги и выводит его в название (София Максимычева. Зелёная шаль: Стихи. Ярославль: Факел, 2019). Значит, образ для нее важен. Поэтому рассматривать книгу необходимо с учетом этой составляющей.
Любое сомнение в существовании Бога, даже если оно рядится в маску страха перед неизвестностью, можно отнести к богоборчеству. Но зачастую само богоборчество — это и есть тот путь, который приводит к Богу.
Вроде бы все просто: от зеленой шали — от Божьего покрова — через неизвестность к несущественным мелочам, которые украшают нашу земную жизнь, — к мещанскому счастью.
Зеленая шаль, неизвестность,
на блюде две груши лежат.
Но получается иная картина, если и в этот раз обратиться к словарю общепринятых символов: плоды груши олицетворяют собой материнство и любовь. Грушу — ближе к языческой символике — можно считать противопоставлением яблоне — общехристианской символике — с ее плодами познания, в том числе и познания греха.
Здесь очень удачно построен ряд символов, которые прочитываются как в поставленном порядке, так и в обратном. От Бога к любви и материнству, к своему священному предназначению, через богоборчество, которое скрыто под словом «неизвестность». Также можно рассматривать с такого ракурса: три точки — зеленая шаль — то, что сейчас, потом неизвестность — как шла к тому, что сейчас, и последняя, третья точка: груши — то, от чего отталкивалась при выборе своего пути.
Вряд ли автор неосознанно пользуется общехристианской символикой, и то, что я увидел в этих двух строках, всего лишь мой взгляд, на который повлиял разносторонний бэкграунд. Ведь в заключительных строчках этого стихотворения упомянуты богословы:
...поют надо мной богословы,
и свет золотистый течет.
К символам я еще буду возвращаться по мере чтения книги. Сейчас давайте начнем с самого начала.
Книга разбита на три равные (по тридцать плюс-минус одно стихотворение) части. Части обозначены цифрами. Без названия.
Первая часть. Первая часть перенасыщена библейскими аллюзиями. Автор будто блуждает среди известных сюжетов и пытается встроить в них если уж не себя, то нынешнюю реальность. Идет глубокая проработка персонажей, попытка понять их, оживить, сделать жителями сегодняшнего мира.
Внезапно прерванное время...
.............................................................
Где Богу — плакать и смеяться:
— О человек! О человек...
Максимычева редко использует местоимение «я». В обращении к себе употребляется местоимение «ты».
Чаще всего слышен четырех-пятистопный ямб. Автор, видимо, предполагает, что этот размер «укачивает», поэтому умело вставляет анжамбеманы, будто приземляя читателя, заставляя мысль, точно строку, сбиваться на полпути, чтобы оглядеться и понять, на каком витке времени находишься.
Многоступенчатые, но при этом цельные образы:
снег ноздреватый и ущербный,
шрам от ручья лицо рассёк.
При всей сложности построения образ держится еще и на точном звуковом ряде. Два слова — снег и лицо — равны друг другу. Они без ведущей буквы «р», когда общие характеристики этих слов — ноздреватый, ущербный, шрам, ручья, рассёк — подкреплены и соединены именно ей.
Вторая часть. Неизвестность как срединная точка развития авторской мысли — либо жизни/личности лирической героини, — данная в первых строках первой части, теперь уже раскрывается, если не сказать, что раскручивается, в полном объеме. Отсылки к библейским сюжетам все еще встречаются — такова авторская речь, — но уже исключительно «пунктиром». Они, как это было раньше, не тащат на себе повествование. Нынешняя эпоха заполняет пространство текстов. При этом сохраняется поступь стихотворных размеров — предпочтение отдается тому же ямбу. Но усиливается дух времени, который обозначен эпитетом «другое». К слову сказать, этот эпитет становится значимым во второй части. Явно преобладает желание автора быть понятой: неизвестность — это что-то другое, не то, что было раньше и о чем были прочитаны книги.
другое здесь время...
* * *
гудят
густые воды Иордана,
и начинается отсчет эпох других...
Что интересно, при первом прочтении книги я совершенно не обратил внимания на рифмы. Меня затягивали дивно сделанные авторские метафоры. Уж больно хороши. Зримые, цельные, без торчащих не пойми к чему приделанных слов. В них можно окунаться, как в купель, очищаясь от лишнего, наносного, греховного.
При втором — более внимательном к техническим деталям — несколько раз застревал на неудачных созвучиях. Все-таки в нынешний век рифмовать «дожди — земли» никак нельзя, а если рифма в стихотворении строится на ассонансах или диссонансах, то надо держаться этого правила на протяжении всего текста. Немного мешают чувствительному слуху рядом стоящие точные, допустим, «размах — впотьмах» с далекими от совершенства «светофоров — скорость».
Третья часть. Три точки в соединении дают троеточие — знак недосказанности. Но если три точки рассматривать каждую по отдельности, то мы получим три законченных высказывания.
Заключительная часть проиллюстрирована картинкой к стихотворению «К язычеству близится время...». Первые две: «Сезон, сменяемый на вербы...» и, соответственно, вторая часть — «Смотрящий в небо...». Как я уже отмечал ранее, три полновесных символа: от зеленой шали через неизвестность к двум грушам, символизирующим любовь и материнство.
При всем том, что накал скорби и горечи внутри стихотворных текстов увеличивается («Небо пунцовое, морок гречишный — стало быть, горькое время пришло...»), внутренняя сила — любовь — все равно пробивается, пусть «заполошным стебельком», но ведь пробивается, как неминуемость — на грани жаждуемого наказания.
Дождями размываем горизонт,
трава примята скорыми шагами,
ведь летом ты ко мне приговорен
и губ моих касаешься губами.
Вторая часть обозначала приближающееся время эпитетом «другое» — отдельное от библейской тематики. Здесь же расплывчатость эпитета пропадает. Время конкретизируется словом «языческое». С одной стороны — оно новое, потому что с точки зрения прошлого мы находимся в будущности, а с другой — наступившая будущность имеет все признаки даже не прошлого, а «предпрошлого».
Стареет
в березовых прожилках новодел
под робкими руками подмастерья.
Заканчивается книга стихотворением «Маршрут путешествий». Три пункта я попытался обозначить тремя точками, насколько смог увидеть и понять, где они находятся. Осталось дело за читателем — отправиться по заданному маршруту и найти в каждом из обозначенных пунктов что-то свое.
И волосы рыжие ветер,
как пену, взбивает, но твой
маршрут путешествий известен —
всегда возвращаться домой!
Дмитрий Артис

Дмитрий Мизгулин. По кромке бытия: Седьмая книга стихотворений
Русская душа живет на пороге двойного бытия (Ф.И. Тютчев), ходит по краю ойкумены (И.Ефремов), обнажая свои рубцы, которые онтологически перерастают в швы жизни = скрепы бытия (С.Кржижановский). Апология края, краевой образ русской жизни — корневой для нашего брата. Эту устремленность «за календарь», в «иное царство» русской сказки тонко прочувствовал и изобразил в своей новой книге стихов «По кромке бытия» Дмитрий Мизгулин. Первое, а значит, программное, настраивающее стихотворение книги сразу погружает читателя в символическое пространство:
Горят в ночи рубиновые росы,
Мерцают тени голубых берез,
Гремят в раскат чугунные колеса,
Судьба летит со свистом под откос.
Очевидно, что действие происходит на заре: росы, рубиновые от рассветного луча, который прогоняет ночь. Но час перед рассветом самый загадочный, апофатический, поскольку это время переходное по своей сути: уже не ночь, но еще и не день. Русский психолог начала XX века Л.С. Выготский, размышляя о «Гамлете» Шекспира, определял это время как самое пугающее и одновременно значимое в мистическом отношении: «Перед самым рассветом есть час, когда пришло уже утро, но еще ночь. Нет ничего таинственнее и непонятнее, загадочнее и темнее этого странного перехода ночи в день». В такой период решается судьба человека. Неслучайно русские вставали рано, с зарей или даже предупреждая ее восход, как пушкинская Татьяна из романа «Евгений Онегин». Так живет и лирический герой этой современной и своевременной книги: «Встану поутру, выпью чаю, // Первую зарю повстречаю».
Однако у Д.Мизгулина в этой предрассветной гуще, пугающей звуком колес, редкими тенями берез, решается судьба человека, летит под откос, что называется. И кажется, чувствуется некий пессимизм, возникающий по нарастающей в следующих стихах:
Не ворваться в безмятежные дали.
Работали меня, укачали.
Но не так прост автор этой книги — он и сам качает читателя на волнах бытия, то погружая его в пучину вод, то поднимая на гребне волны:
Окна, словно свечи, зажигались.
И в метельной, снежной кутерьме
В поднебесье ангелы смеялись,
Словно дети, радуясь зиме.
От страстей человеческих, личной трагедии, изматывающей душу лирического героя, до ангельского поднебесья, мира горнего, распростерся Логос Дмитрия Мизгулина — такова архитектоника его сакрального мира, такова апофатика души русского человека. Но как разрешить этот дуализм, вырваться из метельности жизни?
От бед устану,
От слез и боли,
Я молча встану
И выйду в поле...
Конечно, здесь схвачено главное для русского человека — полная самоотдача природе, матери сырой земле, полю, равнине в нашем космосе. И поэтому сетует автор: «Голубая кружится планета, // Человек давно не смотрит ввысь». А даль, горизонтальный космос, и высь — два культурных априори русского космо-психо-логоса (понятие русского культуролога и философа Г.Д. Гачева), в котором все спаяно: и природа, и душа, и искусство, поэзия, как высшая форма бытия для нас. И здесь мы не должны понимать поэзию логически, обвинять автора в легкомысленности, в запрокидывании головы к небу. А как еще? Поле — отражение звездного неба над головой, которое продолжает поражать художников слова, являясь одновременно и нравственным законом для них. Именно поэтому в стихах Д.Мизгулина много звездных образов:
И опрокинут склочные метели
От звезд опустошенный небосвод.
И ото сна очнувшийся Емеля
С печи в снега со щукою сойдет.
Но что же надо русскому человеку, этому Емеле, Ивану-дураку, в этом равнинном и звездном космосе? Что ищет он в метели жизни? Любимую. Вещую невесту из русской сказки:
За окном сиреневая мгла,
Мне хотелось, чтоб и ты ждала,
Позвонила в чуткой тишине:
— Где ты, милый? Скоро ли ко мне?
Но это обманчивое ощущение рук и губ, потому что возлюбленная — идеальная, потусторонняя, из сиреневой мглы пришедшая. Мгла также связана в русской культуре с пограничным состоянием, с вневременностью, с ощущением новой судьбы (вспомним есенинское «залегла забота в сердце мглистом...»), которую по-настоящему, по-христиански принимает лирический герой стихов Д.Мизгулина:
Приемли все, что ниспослал Господь.
И что бы в этой жизни ни случилось,
И ясный день прими, и непогодь,
И жизнь, как бы нечаянную милость.
Хотя лирический герой, конечно, не схимник, он ищет свой путь, который начинается на земле, а заканчивается по-шопенгауэрски в надзвездном пространстве:
Ни охнуть, ни вздохнуть —
В потоке скоростей
Разгадывая суть
Космических путей,
Взметая прах веков,
Стремимся все успеть —
Без наших мудрых слов
Вселенной не прозреть.
В глухих стенах квартир,
Уйдя в телеэкран,
Опять спасаем мир,
Который сыт и пьян.
Который пьян и сыт,
Цветные видит сны.
И со своих орбит
Слетаем только мы.
И, сделав сказкой быль,
Мы подведем итог,
Когда осядет пыль
Проселочных дорог.
Это центральное, переломное стихотворение в онтологии Дмитрия Мизгулина. Потом вектор движения Логоса, чувства все ускоряется вверх, и в итоге мы вместе с автором и его героем где-то с немыслимых высот, где нет уже боли и земных страстей, вдруг снова слышим дыхание матушки сырой земли, России:
И наступит тишина такая,
Что услышу, сердце затая,
Как, сама себя превозмогая,
Дышит тяжко русская земля.
Эта книга — воплощение русскости, которая выразилась и в страданиях человека, в его жажде любви земной, и в поиске идеальной возлюбленной, алкании сердца любви божественной, и все это слилось в образе родины, русской земли, которая для нас и есть поэзия, и есть судьба. Россия в стихах поэта носит иконический лик, вся страна с раскатами полей («и поле русское в крестах...») — большая икона, которая хранит нашего мужика, что бы с ним ни происходило.
Марианна Дударева
[1] Драдедамовый платок — платок из драдедама — шерстяной ткани полотняного переплетения с ворсом (одного из самых дешевых видов сукна XIX века), которая использовалась в среде городской бедноты. Является неким символом бедности, трагической судьбы. В «Преступлении и наказании» Ф.М. Достоевского Соня Мармеладова покрывала голову именно таким платком.
[2] См., напр.: Кадушина О.И. Символика образа «зеленого драдедамового платка» в романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // INIТIUM. Художественная литература: Опыт современного прочтения: Сборник статей молодых ученых. Екатеринбург: УГИ УрФУ, 2020. Вып. 3. С. 126–129; Пономарев В. Справочник православного человека: В 4 ч. М.: Даниловский благовестник, 2007. Ч. 1: Символика богослужебных цветов. 128 с.




