Рецензии на книги: Максим Горький. Письма о литературе. — Джон Фаулз. Женщина французского лейтенанта. — Михаил Пришвин. Искусство как поведение. — Лиза Крон. С первой фразы: Как увлечь читателя, используя когнитивную психологию. — Вячеслав Лютый. Предназначение: О литературе и современности
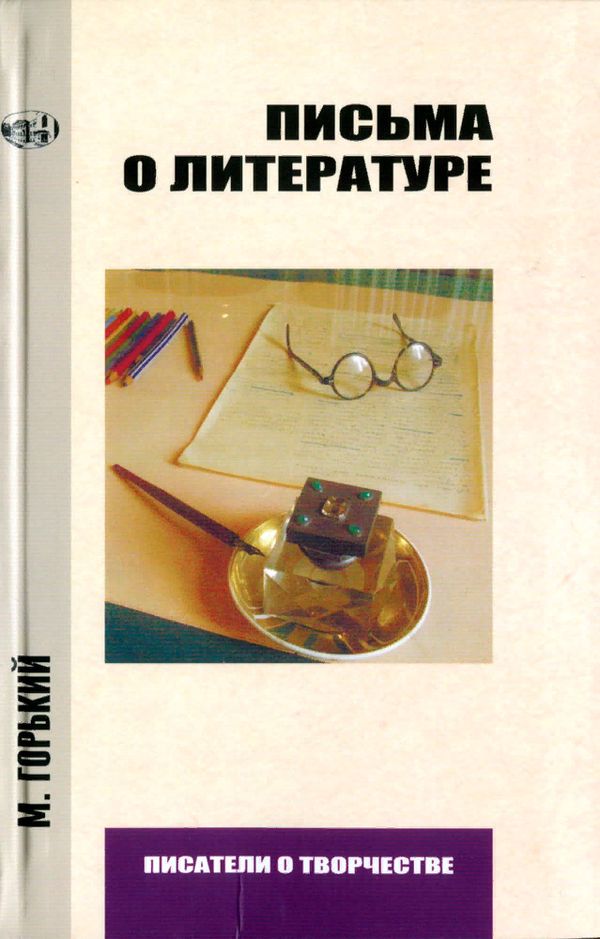
Максим Горький. Письма о литературе
С большим интересом стоит ознакомиться со сборником горьковских писем, выпущенным издательством Литинститута в серии «Писатели о творчестве».
Тематику этой подборки подготавливали специалисты из ИМЛИ с указанием: «Учимся литературному мастерству у классиков».
Письма же М.Горького посвящены его друзьям и товарищам по перу: В.Г. Короленко, А.П. Чехову, Ф.Д. Батюшкову, жене, Е.П. Пешковой, И.А. Бунину, Л.Н. Толстому, К.И. Чуковскому, С.Цвейгу, А.Н. Толстому и многим другим.
Каждый представитель из письма — важная фигура. К примеру, Сергей Павлович Дороватовский (1854–1921) — первый издатель книг М.Горького и пайщик журнала «Жизнь».
Осенью 1897 года М.Горький обратился к В.А. Поссе с просьбой устроить в каком-нибудь издательстве выпуск отдельным изданием его рассказов и очерков, опубликованных ранее в журнальной и газетной прессе. После неудачных переговоров с рядом издателей В.А. Поссе договорился с С.П. Дороватовским и А.П. Чарушниковым об издании книг М.Горького. Изданием книг М.Горького было положено начало демократическому издательству С.Дороватовского и А.Чарушникова, просуществовавшему до 1914 года.
25 февраля 1898 года С.П. Дороватовский сообщил М.Горькому о составе первых томов его рассказов и о том, что «обложку выбрали цвета морской воды, так как описание моря в книжках великолепно». В письме от 3 марта Дороватовский писал: «Вас смущает водянистая обложка... Но ведь вода-то морская, с солью!» (архив А.М. Горького).
«Русское богатство» — ежемесячный общественно-политический, научный и литературный журнал, издававшийся в Петербурге с 1876 по 1918 год; орган либерального народничества. Одним из редакторов художественного отдела в журнале с 90-х годов был Владимир Галактионович Короленко.
В «Неделе» нашли рукопись Горького и будто бы должны были печатать, но в газете «Неделя» его рассказ так и не появился.
«Неделя» — петербургская еженедельная газета либерально-народнического направления. Выходила с 1866 по 1901 год.
Николай Константинович Михайловский (1842–1904) — публицист, социолог и литературный критик, виднейший теоретик русского народничества. В конце 70-х — начале 80-х годов был связан с народовольческими кружками, в дальнейшем перешел на позиции либерального народничества. Не веря в силу массового движения, пропагандировал теорию «героев» и «толпы». Являясь одним из редакторов журнала «Русское богатство», вел на его страницах в 90-е годы ожесточенную борьбу против русских марксистов.
Собрание представляет интерес тем, что являет собой огромный сборник писем М.Горького, читая которые трудно остаться равнодушным, ведь он ведет задушевные беседы не только с адресатами, но и с самими читателями. Автор делится впечатлениями, своим состоянием, восхищается и абсолютно честно и открыто философствует в своих записях.
Если рассматривать их для стороны писательской, то в данном сборнике можно найти советы молодым прозаикам: «пишите правду», «почитайте Пушкина» и «нужно изображать, а не описывать». Все эти фразы можно неоднократно встретить у Алексея Максимовича, так как он повторяет их в своих письмах многажды и с чувством.
Нельзя не обратить отдельного внимания на тон и содержание горьковских рекомендаций. Чаще всего в них можно встретить непоколебимую серьезность, искренность и честность. Стоит остановиться на нескольких выразительных примерах для более детального анализа.
«Спина трещит, и чувствую, как растет на ней горб величиной с Везувий».
«Чем сильнее будут бить по камню, тем больше искр он даст. Я не из слабонервных, и булавочными уколами меня не бьют».
Эти строки вполне себе подойдут как цитаты, которые можно выписать и над которыми можно раздумывать. Через них читатель еще больше знакомится с личностью Горького: сильным, смелым человеком, который через многое прошел, но не мыслит останавливаться.
Особенно мне запомнились строки М.Горького в письме к И.Е. Репину, в которых он рассуждает о литературном опыте. На это особенно было бы полезно взглянуть начинающим студентам Литературного института.
«Я, человек, недоволен собою, писателем, ибо я слишком много читал и книги ограбили мою душу. От чтения я утратил огромное количество оригинального, своего, того, что от природы свойственно мне. Ставши писателем, я начинаю убеждаться, что не свободен в мыслях моих, — как и многие другие, — что я оперирую порой над фактами и мыслями, которые вчитал в себя из чужих книг, а не пережил непосредственно сам, своим сердцем. Это очень обидно. И это нехорошо, разумеется. Достойно ли человека отраженным светом светить? Недостойно. Я думаю, что каждый должен быть свободен в думах и чувствах своих и говорить лишь от себя и за себя, на себя же и принимая ответственность за все сказанное».
Максим Горький делится впечатлениями с И.Е. Репиным о том, что тот литературный опыт, который у него уже есть, мешает ему сознать свой истинный стиль, что этот багаж отражается и на его пере, из-под которого потом рождаются произведения. Также автор уверен, что писатели обижают человека, в особенности если эти писатели — профессионалы. Однако Горький убежден в том, что не существует ничего интереснее человека, что человек — все, что он может двигаться к бесконечности жизни, подразумевая, что жизнь — это движение к совершенствованию духа.
Горький не обходит стороной и тот факт, что ему интересны только чувствующие люди, и делится этим со своим читателем: «Людей умных, но не умеющих чувствовать, не люблю. Они все — злые, и злые низко. Равно не люблю людей — проповедников морали, тех, что считают себя призванными судить всех и вся. В них всегда вижу самомнение фарисея и готов зло смеяться над ними».
При подготовке данного издания комиссией были отобраны наиболее значительные из писем автора, в которых затрагивались вопросы литературы, а именно ее теории и истории, анализировались и оценивались писателем конкретные произведения.
Тексты большинства писем и примечаний к ним приводятся в основном по тридцатитомному Собранию сочинений М.Горького, которое подготавливал Институт мировой литературы имени А.М. Горького (Гослитиздат, 1949–1955).
Отдельные письма печатались по текстам, опубликованным в периодической печати архивом А.М. Горького, или по текстам, хранящимся в архиве А.М. Горького. Письма Горького располагаются в сборнике в хронологическом порядке.
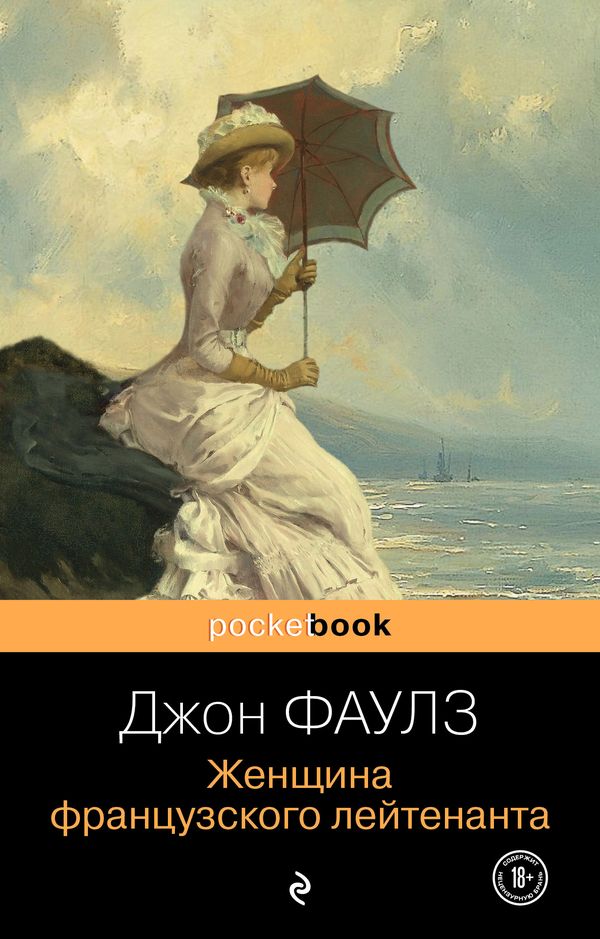
Джон Фаулз. Женщина французского лейтенанта
Первое, на что следует обратить внимание при анализе данного произведения, — это игра с читателями посредством разнообразия финалов.
В первом Фаулз предлагает обратиться к модели викторианского романа, которую он не без интереса пародирует, а временами высмеивает.
С помощью чего автору удается так профессионально возвращать нас в ту эпоху?
Во-первых, у него это получается посредством приемов изображения Викторианской эпохи. В романе «Женщина французского лейтенанта» Фаулз часто использует цитаты как писателей, так и научных деятелей, популярных в ту эпоху. Его герои используют те же категории мышления, что и герои Диккенса или Теккерея.
Интертекстуальность Фаулза это не трюк постмодернизма, это важное условие, с помощью которого и создается атмосфера романа. Помимо манеры речи, категории мышления, у него также получается воссоздать язык и авторский стиль Викторианской эпохи. Фаулз мастерски передает манеру письма, предлагая читателю ввестись в заблуждение, а потом разувериться перед исповедью художника, который благодаря литературным фокусам предлагает читателю откровенную исповедь. Но всего бы этого не возникло, если бы Фаулз изначально не взял за основу сюжет, который так типичен для викторианского романа.
Если по первому финалу мы понимаем, что Фаулз нас водит за нос и не планирует закончить роман, то во втором и третьем нет ответа на вопрос, какой же из них наиболее предпочтителен автору и наиболее правдоподобен для читателя.
С таким вдумчивый читатель уже сталкивался в другом его романе — «Волхв», поэтому без труда сможет разобраться, что к чему. Предлагая два варианта развития событий, Фаулз не предлагает ответить на вопрос, какой же финал наиболее подходящий и закономерный. Такие концовки можно назвать неясными, открытыми. Однако, обращаясь к словам советского и американского историка литературы А.Долинана, можно отметить, что читатель должен был выбрать последний, ведь именно он, опираясь на экзистенциальную философию, которой придерживался Фаулз, единственно истинный и верный. Последний из трех финалов — открыт; в нем главный герой продолжает борьбу с внешним миром, оставаясь с ним один на один. И все, что у него есть в этой схватке, — это нравственный урок, который он вынес благодаря диалогу с жизнью.
Нельзя не упомянуть и слова критика Памелы Купер, которая утверждала, что Фаулз оставляет своих читателей в безвестности, как и своих героев. Эта безвестность касается грядущего развития событий в жизни как читателя, так и героя произведения. Таким образом, Фаулз уравнивает героев и читателей, ставит их в равное положение, покидая на распутье и предоставляя самим решать свою судьбу. Таковы соотношения принципов свободы.
Второе, на что следует обратить внимание при анализе романа «Женщина французского лейтенанта», — это философско-нравственная проблематика и ее воплощение с помощью выразительных средств языка.
Джон Фаулз — писатель, который сделал объемнее роман как форму жанра с помощью таких художественных достоинств, как композиция, нравственный конфликт, оригинальный замысел, глубокие характеры героев и реальный человеческий опыт. И все это можно соотнести с главными героями романа — Сарой и Чарльзом. С их помощью Фаулзу удается заострить внимание читателя на психологии их интимных отношений.
Стоит отметить, что он не ратовал за нравственную вседозволенность и не вводил в заблуждение нигилистическими проповедями, скорее наоборот, он осуждал гедонизм современности и был против снятия моральных запретов в межполовых отношениях. Однако и нельзя сказать, что строгая социальная модель Викторианской эпохи была ему близка. Речь идет о панической боязни плоти, о дуализме души и тела, о подавлении инстинктов. Такая модель не вызывает у Фаулза и сочувствия, потому что писатель не отделяет физическое от духовного, это та материя, которая должна быть неразделима, слита. Но все же если сравнивать вседозволенность и викторианскую «рамочность», то автору скорее предпочтительна она, чем распущенность, ведь распущенность не является освобождением, скорее запрет являет собой дополнительную глубину, и именно он способен одухотворить страсть.
Третье, и заключительное, на что следует обратить внимание при анализе романа, это то, что в число его тем входит тема создания, а герой — романист.
Мы можем говорить о том, что отчасти это произведение автобиографично, будто сам Фаулз обсуждает с читателями проблемы творчества.
Для любой коммуникативной ситуации обязательно наличие адресанта, сообщения и самого адреса. Таков концептуальный аппарат современной коммуникативной лингвистики. Фаулз ведет диалог со своими читателями начиная с первой страницы романа и заканчивая последней, используя для этого все средства в его распоряжении. Задача всякого комментария автора — управлять вниманием и восприятием читателя, то есть его необходимо подтолкнуть к добавочным ассоциациям, эмоциональной и интеллектуальной оценке описываемого, к анализу исторических фактов. Так как объем романа позволяет это делать, комментарии Фаулза разнообразны, многочисленны, носят специфический анализ в связи с идейно-художественным построением произведения.
Таким образом, можно сделать вывод, что роман Джона Фаулза «Женщина французского лейтенанта» отличается оригинальностью финалов и философско-нравственной проблематикой.
Екатерина Дёмушкина
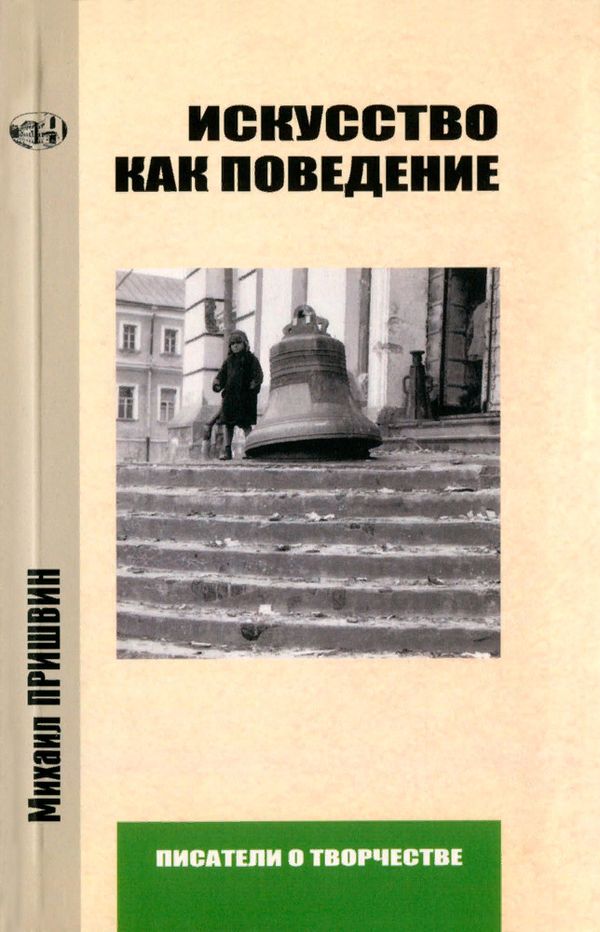
Михаил Пришвин. Искусство как поведение
Михаил Пришвин является одним из самых интересных летописцев минувшего века, он вел подробный дневник наблюдений, охватывающий практически пятьдесят лет жизни: с 1905 года до самой смерти в 1954-м. Записи, уникальные в своем объеме и степени саморефлексии, охватывают все сферы жизни человека и общества: войну и мирную жизнь, любовь, религию, творчество — и считаются одними из самых значимых в русской литературе.
Подобные записи не были предназначены для издания («...за каждую строчку моего дневника — 10 лет расстрела...»). После смерти Пришвина жена писателя, Валерия Пришвина, буквально закопала рукописи, чтобы их не изъяли, а после готовила к изданию, которое стало возможным только после отмены цензуры в 1990 году.
Записи, которые вел Пришвин на протяжении пятидесяти лет, стали не только отражением его собственной жизни, но и свидетельством целой эпохи, где искрами в стоге сена мелькали революции, где безжалостной танковой гусеницей алела война, где на фоне ужасных событий просто жили люди.
Навсегда оставшись верным себе, писатель до самой смерти был романтиком, безмерно любившим природу и весь живой мир. Удивительно, как после пережитых невзгод и несчастий Пришвин смог по-прежнему любить человека, — а ведь это то, что мы никогда не требуем, потому что не уверены, что сами смогли бы продолжать любить, но всегда ждем.
Несмотря ни на что, писатель по-прежнему давал человечеству шанс, а вы, должно быть, слышали, что происходило тогда.
Пришвин остался в России, даже когда мог эмигрировать. Находясь посреди стремительно менявшегося мира, он всегда отделял себя от него, выстраивал вокруг себя границы, но никогда не прерывал дипломатических отношений — получалось такое «государство в государстве». Дневники были той формой его свободы, которую он мог себе позволить.
Пришвин остро задумывался над тем, а что такое в творчестве это «надо». А может быть, и не надо? Разница между этими «надо» и «не надо» и является оценкой созданной вещи. И иногда общественное «не надо» не может перевесить твоего личного «да».
В книге «Искусство как поведение» приведена лишь малая часть высказываний писателя о творчестве и его переплетении с жизнью. Поражает глубина самоанализа и рефлексии над собственными чувствами, мыслями и творениями, подобные записи позволяют приоткрыть занавес над творческим процессом, понять, как кукольник поставил руки, чтобы в театре теней изобразить орла или даже пройти обратный путь от орла до рук.
Представленные цитаты идут в хронологическом порядке, поделены на годы. Некоторые отрывистые, некоторые полные, и все в той или иной мере отражают мысль писателя, как она преображается и какой путь проходит спустя время. То, что Пришвина волновало в 1914 году, уже не волнует в 1937-м.
Литературная саморефлексия изучена очень мало, потому что сами исследователи не всегда этим исследованием занимаются, к тому же это процесс сугубо индивидуальный. Сложно всматриваться в зеркало своего сознания, где изображение скрывается туманом субъективности, да еще и писать с этого автопортрет. Постоянный анализ и постоянная работа над собой — то, что сопровождало Пришвина всю жизнь, и то, с чем он не расставался, была его записная книжка.
Творчество никогда не уходит из человека, никогда не покидает даже задний план его мыслей. Тот, кто привык выражать себя через искусство, никогда не перестает смотреть на мир под определенным углом и цепляться взглядом за каждую деталь. Такие люди не сводят с жизни глаз, а Пришвин был настоящим охотником посреди наполненного событиями пространства — его взгляд еще острее.
Книга «Искусство как поведение» вышла без каких-либо комментариев, заметок писателя, основной акцент идет на том, что Пришвин думал и замечал. Возможно, мне не хватило каких-либо пояснений и исторических сносок, так как некоторые заметки содержат информацию, недоступную для читателя, который совершенно незнаком с контекстом. В некоторых местах сложно понять, о чем конкретно идет речь, следовательно, сила воздействия терялась, не доходя до адресата.
Предисловие Алексея Варламова дает необходимый историко-литературный фон, благодаря которому даже незнающий почувствует себя достаточно уверенно, чтобы все понимать, когда он только приступает к чтению. Однако для полного понимания некоторых заметок необходимо искать информацию самостоятельно, что не очень удобно в нашей современной жизни: если контент сложно получить и мы не слишком в нем заинтересованы, мы уходим в другое место.
Для тех, кто обучается искусству, этот сборник как никогда актуален не только из-за того, что показывает, как мыслил писатель недалекого прошлого, но и потому, что демонстрирует потрясающую рефлексию над собственными мыслями, которой, к сожалению, из-за быстрого темпа жизни не хватает современным авторам, и мотивирует к наблюдению за собственным творческим процессом. Однако мне кажется, что временной разрыв между писателем и современным поколением не позволит в полной мере получить запущенный Пришвиным сигнал, и, чтобы актуализировать подобные заметки, были бы нелишними мнения умудренных опытом людей.
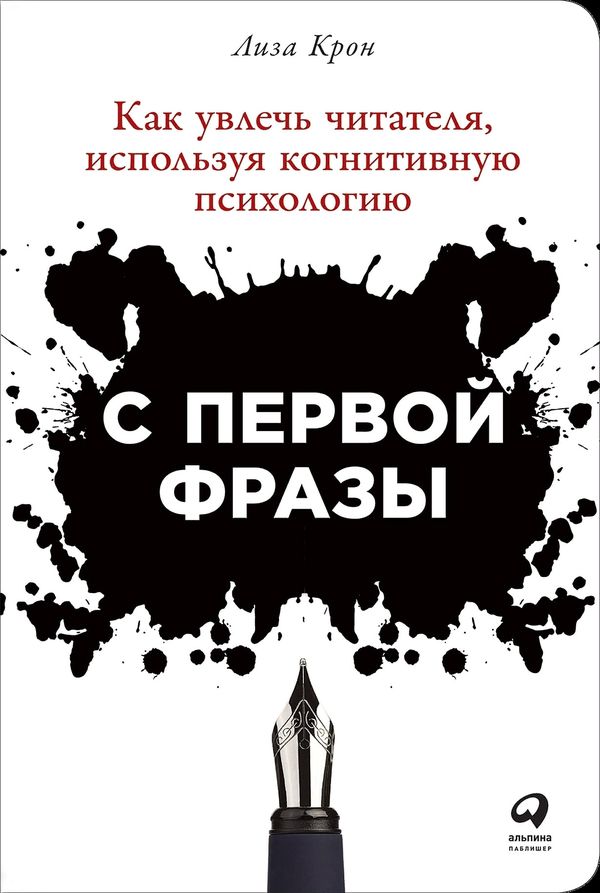
Лиза Крон. С первой фразы: Как увлечь читателя, используя когнитивную психологию
Лиза Крон — преподаватель писательского мастерства в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса. Работала в сфере издательского дела, а также литагентом, телепродюсером и литературным консультантом киностудий «Warner Brothers» и «Village Roadshow». Имя в русской среде практически неизвестное. Книга издается под невзрачной обложкой и в принципе оказалась не такой востребованной, какими сейчас являются «советы начинающим писателям».
Каждый пишущий человек когда-то заходил в Интернет и искал эти советы, «шпаргалки» на сто пунктов и бережно просматривал каждый, запоминая, каких распространенных ошибок лучше избежать. Сейчас существует большое количество коротких поучительных видео от книжных блогеров, курсов по мастерству и мотивационных лекций, однако поиск контента может оказаться более сложным и выматывающим, чем его постижение, хотя тот, кто ищет, тот всегда найдет, тут я не спорю.
«Советы начинающим писателям» от писателей-классиков тоже не всегда выигрышный вариант, это может закончиться навязыванием чужой писательской стратегии новичку, который смотрит на свои метафоры и думает: «Это все надо убрать, как сказал Оруэлл»; и хорошо, что одним из пунктов Оруэлл сказал: «Лучше нарушить любое из этих правил, чем написать нечто откровенно варварское».
Я не говорю, что все советы, которые в больших количествах множатся и пересылаются в Сети, плохи, нет, среди них есть даже очень хорошие. Однако я могу предложить сменить точку зрения и посмотреть на писательскую задачу с другой стороны. Не со стороны «вот так не делай», «не сдавайся», «пиши как можно больше», «оборудуйте свое рабочее место, пишите стоя, по утрам, не пейте кофе», а со стороны того, как истории воспринимаются читателями в принципе.
Это будет не «если я поверну вот это, а эту кнопку не буду трогать, то все заработает», это будет «я знаю, что делает эта кнопка, мне нет необходимости это нажимать, а вот это колесо я покручу, потому что я знаю, к чему это приведет». И в итоге у нас есть душ с нужной температурой и без всякой едкой лимонной пены. А лимонную пену можно пустить, чтобы потом душ помыть.
Лиза Крон рассказывает, какие аспекты историй влияют на сознание человека, какие механизмы заставляют его любить книгу и продолжать читать дальше. Когнитивная психология в прикладном ее явлении — что может быть лучше?
Объясняя, как устроен человеческий мозг и что он ищет в историях, Лиза Крон иллюстрирует это примерами классической литературы (есть раздел, посвященный разбору романа «Унесенные ветром») и фильмов, и хотя некоторые сравнения могут быть непонятны российскому читателю, они растолкованы достаточно точно, чтобы можно было понять и без ознакомления с оригиналом. Сейчас вы занимаетесь тем же самым, не правда ли?
Лиза Крон начинает с того, что выясняет, а что такое написанная история, из чего та состоит (цель, сюжет, тема) и что читатель прежде всего ждет, открывая любую книгу. Несмотря на распространенное мнение, что история — это сюжет, подобное утверждение все-таки не совсем верно. Настоящая история о том, что происходит с персонажем по мере продвижения этого сюжета, и это одна из главных ошибок начинающих авторов, которые в попытке придать глубину своей книге пичкают ее неожиданными, зачастую плохо вписывающимися поворотами. Если взять даже несколько популярных книг жанра young adult и посмотреть, чем все заканчивается в этих историях, становится понятно, что персонажи ничуть не изменились даже после череды травмирующих и страшных событий. И это даже не является концепцией автора. Совсем. Можно сказать, что подобные книги и занижают художественную состоятельность этого жанра, почему это популярно — вопрос отдельный (довольно подробно раскрывается в исследовании Герты Вебер «Феномен популярной литературы из медиапространства»).
Рассматривание фундамента истории Лиза Крон начинает с цели (движущей силы) и того, как отсутствие ее как единого объединяющего фактора влияет на восприятие. Лиза Крон останавливается на таких понятиях, как фокус, эмпатия и сопереживание персонажам, внутренние проблемы, конфликты, причины и следствия, раскрывая каждый аспект с точки зрения не столько читателя, сколько устройства человеческой психики. Да здравствует когнитивная психология!
«Факт из когнитивной психологии: именно эмоции делают все вокруг значимым. Если мы не чувствуем, мы не мыслим».
Вместе с Лизой мы проходим весь творческий путь, держа ее за руку: сначала понимаем, что такое история, и отвечаем на главные вопросы (что, по моему мнению, один из плюсов — четко сформулированные вопросы, на которые хочется дать ответ, в отличие от тех же советов начинающим писателям) по каждой составляющей: чья эта история? что здесь происходит? что находится под угрозой?
Потом же мы переходим к более частным вопросам о построении конфликта, о внутренних проблемах персонажей и передаче их эмоций, о подробностях и боковых линиях сюжета, о композиции (от предпосылки до развязки).
И что самое важное — есть глава про то, что происходит с самим писателем. Нас не бросают на съедение читателям, чтобы им во всем угодить и построить правильный, учитывая все аспекты нашей психики, аттракцион внимания. Наш творческий процесс и наша личность тоже важны. Особенно оказался интересен момент, где объясняется, почему так мало хороших писателей, хотя мы можем отличить хорошую историю от плохой. Все зависит от интенциональности и то, что мозг писателя может продумывать больше состояний ума, чем мозг большинства людей.
«Что же отличает хороших писателей? Мы можем удерживать в уме и то, что знаем мы, и то, во что верят наши герои, и одновременно следить за тем, в чем убежден наш читатель».
Но не думайте, что я сразу вот здесь вам раскрыла самую важную мысль, которую хотела донести Лиза Крон. Нет, я всего лишь вас интригую.
Для того чтобы лучше выстраивать свой творческий процесс, необходимо понимать, что лежит в его основе. Исследовать, как творчество влияет на читателя, — один из главных аспектов, которые важно изучить.
Возможно, для начинающего писателя подобные разборы только напугают и запутают, в отличие от простых пронумерованных списков советов, лаконичных и нестрашных в своей краткости. Материал книги все же предназначен больше для людей, которые уже примерно понимают, что такое текст и как он у них получается. Поскольку советы начинающим авторам для некоторых уже неактуальны, я бы рекомендовала Лизу Крон для тех, кто хочет двигаться дальше.
Анна Иовкова

Вячеслав Лютый. Предназначение: О литературе и современности
Книга известного критика, вышедшая в 2022 году, представляет собой манифест современной русской литературы.
Жил в свое время такой человек — Мартин Лютер. Нет, не Мартин Лютер Кинг. Тот был тоже протестантским священником, но в середине XX века боролся за права американских чернокожих. А я — про бывшего немецкого монаха, что за четыре с лишним столетия до него и почти за одно до первых английских поселенцев в Северной Америке породил весь европейский протестантизм. Точкой отсчета, напомню, стали 95 тезисов с критикой Католической церкви, бумагу с которыми Лютер прибил 31 октября 1517 года к дверям своего храма в Виттенберге.
Еще он, говорят, запустил в дьявола чернильницей. Но это уже к делу не относится. И вообще, на этом экскурс в историю, Европу и за океан можно завершить. Ибо основой для него стало простое звукоподобие. Очень уж созвучна фамилия Вячеслава Лютого, которого приверженцы традиционного течения отечественной литературы считают ведущим критиком своего направления, с именами этих двух исторических персонажей.
Впрочем, только ли это? Протест против сегодняшнего состояния дел в литературном процессе и отношения государства к настоящей, по оценке Лютого, русской литературе в его статьях опять же налицо. Правда, выступает он все-таки за сохранение и продолжение традиции. Однако назвать его консерватором язык тоже не повернется: он за традицию, постоянно обновляемую.
И еще одно сходство, на мой взгляд, имеется. Вышедшая в прошлом, 2022 году в Воронеже тиражом всего 300 экземпляров объемная книга этих статей, рецензий и интервью «Предназначение» содержит россыпь и вполне позитивных высказываний о том самом течении русской литературы, сторонником которого является автор. Будучи выделены в качестве тезисов и собраны вместе, эти утверждения вполне могут составить своеобразный манифест, систему координат этого течения. Тем более в контексте нынешних активных попыток сформулировать критерии настоящей литературы.
Сделать это — выделить и собрать, не мудрствуя лукаво, — я и попытался в следующем далее связном тексте. Возможно, небесполезно. Согласятся в этих тезисах, уверен, далеко не со всем и отнюдь не все. Однако вряд ли имеет смысл встречать их спешными раздраженными комментариями, которые мы иногда оставляем под теми или иными постами в социальных сетях. Такого рода тезисы, на мой взгляд, требуют спокойного прочтения и системного же отклика.
На тяжком рубеже
Выказывая себя современным православным человеком, Лютый считает, что на невероятно тяжком для нее рубеже тысячелетий Россия держится святыми молитвами старцев и волевыми поступками тех, кто принимает на свои плечи всю тяжесть глухого времени. В ряд «самоотверженных матерей и жен, монастырских послушников и истинных художников», что защищают красоту от пошлости и низости, он включает и русских писателей.
Одна из составляющих этой тяжести и глухоты в том, что правилом «хорошего» тона стала грязноватая ирония по отношению к первостепенным вещам: детству, материнству, Родине, родной истории. «А слова правды и любви, слезы боли и горечи, радостный смех и прозрачный утренний свет над русским простором оказались в изгнании, были удалены из зоны прямого доступа...» В последние десятилетия, когда «горлопаны» и газетные обозреватели «демонстративно не замечали всего действительно значимого и серьезного», реализм как основное традиционное течение русской литературы оказался в неравных условиях с иными литературными течениями.
Изменилось и восприятие самого слова «писатель». Почти два столетия всем было ясно, что это человек, «который умеет складывать слова в понятную и благородную по звучанию речь, закреплять их на бумаге и затем, уже в виде книги, передавать свой труд всякому, кто будет заинтересован в новом взгляде на жизнь и судьбу, в достоинстве и нравственном чувстве, в красоте и глубоком смысле жизни, в ее высоком и скрытом от постороннего глаза предназначении». Никто не сомневался и в том, что «писатель любит родную землю и готов постоять за нее не только словом, но и кровью своей».
Однако сегодня, по мнению критика, писательство можно представить как «некое ветвистое дерево», где наряду с родными ветвями появились искусственно привитые. А некоторые ветки переродились в изогнутые хворостины.
При этом автор отделяет русское писательство от мировой литературы. Да, прежнее «множество ярких имен и произведений» в ней, по его ощущению, стало для русских авторов строгой школой. Но сегодня мировая литература, считает он, превратилась в тупик, где «происходит обработка достаточно прогнозируемых и порой навязанных желаний, мечтаний, часто рассудочных размышлений нынешнего западного частного человека, который утратил ощущение необъятного бытия и погрузился с головой в физическую реальность». Тогда как русские писатели всегда «искали самобытную форму, которая адекватна историческому содержанию, не желающему укладываться в прокрустово ложе привычной литературы». И по-прежнему, наследуя Шолохову, стремятся создавать собственный оригинальный художественный мир.
Раскол литературы
Литература, убежден Вячеслав Лютый, является смыслообразующей частью культуры и призвана противостоять духовной смерти человека, который способен утратить первоначальный космизм своего «я», становясь едва теплой шахматной фигурой — рациональной, послушной внешним предписаниям. К примеру, в русской поэтической почве более чем достаточно прекрасных и целебных цветов и трав, необходимых для такого противостояния. И не только в почве.
Современную поэзию критик вообще видит богатой и цветущей: «...ее интонационное богатство, умение по-новому взглянуть на большое и малое достойны не только изучения, но и читательской влюбленности». Однако эта поэзия «обеднела талантами, к которым приложим образ родового древа, объединяющего прошлое, настоящее и будущее». И потому травяная и цветочная поросль распускается лишь на сезон, «она не связывает живыми жилами разные земные слои и не устремлена в наступающий день».
Не связанная воедино россыпь лирических зарисовок скрывает «неспособность автора к переживанию глубокому, соединяющемуся множеством тончайших нитей с мирозданием». Приглашение читателю погрузиться в быт сочинителя при этом обоснуется правом художника на самовыражение, к которому предлагается приравнять творчество. Чуть ли не единственным признаком настоящей литературы объявляется стиль, созвучие с читателем — необязательным.
Между тем главным смыслом творческого акта, напоминает Лютый, является одухотворение. И когда литература вместе со всем остальным искусством этот смысл утрачивает, она мертвеет, наступает апокалипсис. А современное искусство оказывается художественной дверью в метафизическое ничто.
Со сломом советского государства, отмечает автор, появилось чувство свободной речи. Но одновременно была сломлена и внутренняя идея, без которой не может жить даже просто мыслящий человек, а тем более художник. Все «соскользнули с поверхности бытия» в некую мировоззренческую котловину. «В обществе возникла психология рыночного хама и во весь голос стало озвучиваться циничное отношение к русской культуре и русскому человеку как таковому... Современное общество с любопытством умалишенного стало поверять высокие истины низкими понятиями и предметами...»
Общественное сознание советской эпохи, напоминает критик, было пронизано необходимостью постоянно делать нравственный выбор. Однако после перелома начала 90-х «в литературе... образовалась некая территория, на которой названный лейтмотив негласно признавался совершенно необязательным или даже порой предосудительным».
На рубеже нового тысячелетия совершился «мировоззренческий поворот автора от внешнего мира — к внутреннему». Ранее было принято говорить о сверхзадаче писателя. После — ставить во главу угла фигуру автора, придавая ей большее значение, чем созданному произведению.
Опять же в центре внимания оказалось «самовыражение литератора и свобода его личности, уставшей от невнимания публики». А то, «что наполняло культуру в прежние десятилетия и эпохи, стало пониматься буржуазным бомондом как отжившее свой век морализаторство и диалог с вымышленными инстанциями и персонажами: с Богом... или с великими именами». В то же время «русская литература традиционного звучания... осталась в своих духовных берегах», и нравственные акценты в диалоге литературного героя с окружающим миром «только обрели дополнительные нюансы и оттенки».
Так, продолжает автор, «прежде относительно целостная отечественная литература разделилась на две части: либеральную, коей сам черт не брат и море по колено, — и русскую, в духовном отношении глубоко традиционную». Обратим внимание: альтернативу либеральному направлению он называет не антонимом и не более расхожим термином «почвенническая», а по национально-культурному признаку — русская.
Антитеза формального авангарда и консерватизма тут тоже ни при чем. По его оценке, «сухая ветка сегодняшней либеральной литературы обходится без нравственных координат в изображении своих героев». Во второй «вполне могут быть какие-либо новации в интонационном строе и повадках персонажей, однако связь со старыми временами в самых главных определениях здесь по-прежнему незыблема».
По существу, убежден критик, все-таки возвращаясь к прежнему обозначению антитезы, «настоящий читатель вынужден выбирать между литературой почвенной и литературой “мертвенной”... Литература почвы пытается проникнуть в тайну возникновения родовой памяти и природы, в народную традицию и сложнейшую проблему ее соприкосновения с цивилизацией. Здесь художник озабочен уже упомянутой сверхзадачей, а все, что позволяет ему двигаться к назначенной цели, имеет служебный, инструментальный характер».
Именно такая литература, убежден критик, — инструмент идентификации русского человека. А пока есть русский человек — существует и Россия.
Обновление смыслов
Художественная литература, считает Вячеслав Лютый, «всегда позволяла читателю понять время и события, узнать в них знакомые черты и открыть неизвестные прежде стороны происходящего. А уже потом соотнести себя с литературным изображением и исторической реальностью, взятой из нехудожественных источников».
Такая русская литература «всегда объясняла читателю жизнь на художественных примерах». И вопреки всем позднее возникшим бойким «теоретикам», которые осмеяли ее «учительство», и «больным на голову» сочинителям, которые стали «хихикать надо всем серьезным, что от века поддерживало русскую жизнь», бытие в ней непременно подразумевает жизнь человеческого духа...
Такая литература, по мнению критика, является по определению традиционной. Она «есть воспроизведение уже сказанного на новом материале, то есть постоянное возобновление традиции на фоне многообразия тех вызовов, которые предлагает нам реальность». И для этой традиции «характерны кристальные смыслы и понятия: детство, мать, честность, справедливость, чистота, затаенность женщины, любовь, верность, Родина, память». Ими насыщены «все главные произведения русской литературы вне зависимости от века».
Все это отнюдь не означает остановки, поскольку «традиция понимается не как воспроизведение старых образцов — но как развитие принципа». И начало XXI века, отмечает Лютый, требует русскую литературную традицию активно обновлять. Однако на первое место он ставит подпитку тех самых базовых смыслов новыми, современными.
Как та или иная литературная идея воплощается стилистически и формально — тут, по мнению критика, возможна полная свобода. Правда, при одном условии: читатель знакомится прежде всего с отображающим реальность произведением, а не с автором... Кроме того, автору стоит помнить, что «авангард только называет явления и их грани, тогда как реализм проникает в само существо события, человека, времени».
Еще один из главных признаков собственно художественной литературы — наличие художественного мира, который создал писатель... А «писателя-профессионала характеризует сверхзадача, которая складывается в его сознании, когда он подступает к своему новому произведению».
В то же время, по мнению критика, интеллектуализм является не самой лучшей стороной художественного произведения. Требовать его от современной литературы и попрекать ее «неизобретательным изображением распространенных типажей» вообще не стоит.
Постмодернистская литература и СМИ, заявляет Лютый, в предыдущие годы «вывернулись наизнанку в своем животном старании дегероизировать наше бытие». Так что «исстрадавшийся в постмодернистской пустыне русский человек тянется к теплоте, к конкретному герою, к узнаваемой ситуации».
«Литература живет образами и только в связи с ними — смыслами и рассуждениями. Именно поэтому легковесные любовные романы имеют большее отношение к литературному повествованию, нежели интеллигентские опусы рефлексивного характера, в которых человеческого мало, но относительно “умного” — через край...»
И с откровенной публицистикой надо быть поосторожнее. Фраза «я не поэт — я гражданин», замечает Лютый, сегодня популярна у плохих поэтов, а писать о Родине плохие стихи нельзя. Хотя и оговаривается: «Публицистические стихи вчерашнего дня могут поразить глубиной нового дыхания, будучи вписаны в неожиданный образный и предметный контекст...»
Правда и мужество
Для современной русской прозы, убежден Лютый, очень важно создать характер литературного героя, в котором житейские недостатки сочетались бы с некой идеей, подчиняющей его жизнь. Он может ошибаться и быть порой несправедливым, но одновременно не может отказаться от себя самого, от того, что любит всем сердцем...
Говоря о смещении многих понятий в современной России, автор резко заявляет: «Неизвестно, какой уклад... считается властью доминирующим и перспективным: социальное государство или вертикаль воров и лжецов...» В такой ситуации, в частности, для молодого поколения чрезвычайно важно, чтобы приоритетными понятиями в литературе оказались правда и мужество. «Чтобы новый герой обладал мужскими качествами, а героиня — женскими, в противоположность нынешним образам самца и самки, настоятельно внедряемым в сознание молодежи...»
Исключительно важно «показать в литературном произведении действительных героев современной жизни, которые держат стены нашего дома-государства — несмотря на ложь пропаганды и воровские ухватки ничтожной “элиты”». Только тогда современная русская литература станет сильным союзником надежды на завтрашний день и «духовно верного воспитания нового поколения... И тогда заново начнет выстраиваться общественное мнение уже иного образца — в отсутствии корысти и пошлости, пронизанное искренностью и верой в справедливость».
Какой бы ни была эпоха и насколько бы ни развратили юное сознание безудержной пропагандой наживы и беспринципности, отмечает критик, молодому сердцу всегда важна правда. Сегодня же особенно актуален «вопрос взаимного триединого согласия: молодого человека — государства — Родины... Нужна воля к действию, нужны сильные мужские характеры, определенные решения, за которые герой может отвечать». А что касается формы, то «в эти смутные годы требуется... осознанная скупость и точность литературного письма».
Сама отечественная словесность, утверждает критик, немыслима без проекта о человеке и его мире: такова форма ее существования. «Подлинную литературу, которая есть бытийное зеркало нашей реальности, земной и духовной... важно отличать от текстов, которые присутствуют в “реальности книжного рынка”, и то лишь благодаря неким специальным подпоркам в виде хорошо подготовленного пиара и пошлого “креативного” горлопанства...»
Литература и власть
Главным, наиболее востребованным писателем страны между тем до последнего времени считался Борис Акунин — по словам Лютого, «бойкий беллетрист с отточенной способностью лукавить там, где это необходимо лично ему и его либеральному лобби». В том же ряду он упоминает Сорокина, Дмитрия Быкова, Минаева, Рубину, Улицкую...
Именно из этого ряда до последнего формировались писательские делегации, представляющие российскую литературу на книжных выставках за рубежом. Именно этим авторам, чья «внутренняя ложь и нравственная вседозволенность на поверхности», раз за разом оказываются адресованы «властные улыбки и участливые взгляды». И именно их томами, а не книгами, скажем, Валентина Распутина, Петра Краснова и Владимира Крупина завалены книжные магазины.
Пачку именно акунинских книг, напоминает Лютый, «юркие чиновники» преподнесли как-то президенту. Хотя тот, «видимо, хочет, чтобы защищали родину молодые ребята, читавшие, скажем, прозу Константина Воробьёва».
Высказал это критик в 2015 году, а через семь лет его предположение, похоже, подтвердилось. Во всяком случае, выступивших против СВО Акунина и Быкова в Донбассе вроде бы не поминают — как минимум добрым словом. А военную лейтенантскую прозу Воробьёва наверняка и впрямь читали многие из тех, кто на передовой.
Поддержки подлинно отечественной литературы, утверждает Лютый, в России нет. Государственную политику в литературном поле он именует «слепоглухонемой», что вполне соответствует «странной иллюзорности» нынешнего российского государства, «в котором постоянно происходят перемены совершенно нелепого и безжалостного по отношению к народу свойства, неочевидные только слепому или сердечно глухому человеку».
Политика же издательская в двух российских столицах ориентирована на столичных же авторов и «отличается странной герметичностью», а в провинции практически отсутствует. Между тем литературу в сегодняшней России, по существу, представляют именно региональные, а не столичные писатели. «...Столица поставляет в традиционно здоровую в духовном отношении провинцию всякую модернистскую чушь — таково следствие информационной эпохи... сегодня издательский процесс, главным образом сосредоточенный и финансируемый в столице, практически враждебен собственно литературному процессу как отображению сегодняшней жизни во всей ее художественной и реальной полноте...»
Поэтому вопрос читателя «где найти хорошую книгу?» обречен остаться без ответа. Инструментов, позволяющих его дать, практически нет. Главные современные литературные премии, например, превратились в коммерцию, «лохотрон» и вообще авгиевы конюшни. Хотя, предполагает автор, лучше повторить один из подвигов Геракла: вычистить, а не развалить до основания. Чтобы они «обрели творческую содержательность и фиксировали важнейшие достижения в русской словесности наших дней».
«О самом драгоценном для нас, — вновь резко замечает Лютый, — мы говорим под вой и проклятье “писателей” поддельных...» Их, по его оценке, не очень много, зато в их распоряжении — все СМИ, издательские и финансовые ресурсы. Бытие же «прозаиков и стихотворцев, которые назвались “русскими” и выбрали для себя иной житейский и творческий удел в этом гнилом соседстве, в ситуации недоброжелательного или в лучшем случае осторожного присутствия государства», проходит «в мучительном преодолении враждебности окружающей социальной среды».
Что государство поддерживало и Союз писателей России, который стремится быть центром притяжения патриотических сил, критик признаёт — однако называет эту поддержку часто лукавой и вынужденной. В том числе потому, что, по его мнению, если бы русские литераторы заняли «непримиримо враждебную позицию по отношению ко всем ступеням... административного устройства», на пользу это бы не пошло никому.
Властная элита, считает Лютый, «должна знать, что писатели ее не любят и после некой “точки невозврата” могут такую свою нелюбовь любыми средствами транслировать российскому читателю». Но уточняет: «Не с позиций либеральных любителей осетрины и публичных соитий перед объективом камеры, не с позиций “баррикадного” решения всех идеологических и социальных вопросов...» А вместе с нарастанием глухого народного ропота приобретая «оттенки бури в тисках терпения».
Хотя, продолжает критик, уже в СМИ произносятся широко прежде немыслимые слова «патриотизм», «Родина» и «русский народ», на деле «либеральный шабаш продолжается, только без всемерной огласки. Государство пока еще не подтвердило в полной мере свою приверженность национальным ценностям, героической и многострадальной русской истории». Да и патриотизм «озвучен в качестве национальной идеи», не исключено, только потому, что «этот вектор развития необходим российскому истеблишменту для сохранения сложившейся властной вертикали».
Что же касается высокого русского языка, «которым владели Пушкин и Чехов, Достоевский и Толстой», он той самой элите, уверен Лютый, практически не нужен. Для достижения ее собственных экономических целей «вполне достаточно обедненного английского», который, заметим по ходу, последствиями своего использования вполне сравним с обедненным ураном.
Так что, подытоживает критик, «истинные литературные достижения сегодня существуют в нашей стране наперекор издательской политике, которая выуживает из тьмы неизвестности и бумагомарания опусы подчас совершенно бездарные. А также превозносит в СМИ и поощряет тиражами произведения весьма средние, главным образом — либеральные или буржуазно-коммерческие». Но все-таки Лютый надеется на будущее, когда «государственная власть придет к пониманию того, что с русскими важно выстраивать особые отношения, а считать огромный народ аморфной “массой” есть самоубийственное заблуждение».
Все либеральное творчество, по оценке критика, утверждается под девизом «здесь и сейчас» или «после нас хоть потоп». Почвенная же литература, как правило, многомерна, устремлена и в будущее, и в прошлое... Чутко улавливая медлительность и неуверенность власти в традиционных приоритетах, издательские круги вновь и вновь дают импульс порочному развитию современной литературы. А подлинная русская словесность вновь остается на голодном пайке, в положении просящего.
В этой, считает Лютый, духовной войне проведенный в 2015 году Год литературы стал обманчивым перемирием. Эрозия либерального уклада происходит, однако «отечественная словесность должна понимать необходимую строгость своего внутреннего состояния, а также ответственность за художественную и интеллектуальную строку, обращенную конечно же к Богу — но и к читателю». Важны также «самодисциплина и понимание, что русский язык — это твой язык и от тебя зависит его чистота и содержательность».
Вдалеке от бытия
Основной принцип либеральной литературы, отмечает Лютый: все, кроме эго, — избыточно. Главная тема ее представителей — проблемы человеческой личности, однако «огромное большинство произведений таких авторов подают “личность” как нечто неприятное и часто низкое». Самозабвенное копание в бытовом и сексуальном существовании героев низводит их до уровня особей.
Лучшие авторы-либералы обходятся без этого. Однако и они отрицают связь человека с родной землей, ее историей. Духовных обязательств перед своим родом их герои не ощущают.
Отчасти именно это стало основой для разделения писательских объединений, когда Союз российских писателей (СРП) отделился от Союза писателей России. Для первых, категорично заявляет критик, писательство — только умение, вторые — впитали «соки здешней почвы». Хотя и в СРП «есть много честных художников» и появляются «совсем иные люди, с правильно поставленной душой и верным нравственным чувством».
Но дело не в организационной принадлежности. На рубеже 60-х годов ХХ века появилась, по словам Лютого, и «целая когорта авторов, которые не переносят все русское и которых доводят до изнурения собственные припадки ненависти к самобытности русского начала». Лучшие из них писательским мастерством вполне владеют, «однако вся бытийная глубина, присущая органическому русскому творцу, категорически обходит их сочинения. Буржуазные пошловатые графоманы, фигуры приятные во всех отношениях, они любят посидеть сразу на двух стульях... Опытные версификаторы... они не способны вдохнуть живую искру в слова, чтобы возникли стихи, равноценные строкам Сергея Есенина или Николая Рубцова».
Мир во всей его сложности, который существовал до появления поэта на свет и будет существовать после его ухода, творцу экспериментальной, авангардистской лирики, стремящемуся выразить в первую очередь собственное внутреннее «я», принципиально не интересен. Такие произведения и такие авторы, считает Лютый, — «явление сугубо литературное, в основе своей искусственное».
Только, считает критик, «искусственная удаленность лучших русских поэтов от читателя позволяет иным аналитикам от литературы говорить с придыханием о чем-то совершенно ином и достаточно мелком: о Вере Павловой, Сергее Гандлевском, Дмитрии Быкове, Льве Рубинштейне, Вере Полозковой и им подобным».
По мнению критика, «новая лирика, насыщенная предметами и личными переживаниями автора до предела, оказывается только дневниковой записью в соответствующей литературной форме — и больше ничем... Читать это можно только в малых объемах, поскольку в целом подобные стихотворцы представляются литературной толпой, в которой каждый жаждет рассказать тебе только свою историю и поделиться исключительно собственными обыкновениями и привычками».
Либеральная литературная практика, констатирует Лютый, «понимает поэта как одиночку, который говорит о мире только в связи с собственными переживаниями и бедами — но категорически не воспринимает себя в качестве части мира, истории, рода».
Такой в самом тривиальном виде субъективный идеализм прежде не вклинивался в литературу. Но сегодня он стал оружием, «которым уничтожают русскую поэзию, лишая ее великих смыслов, низводя их до частных построений творчески не состоявшихся школяров, которые не уяснили себе сложные законы соединения большого и малого, частного и общего, уходящего и нарождающегося».
В общем, сурово заключает Лютый, это «либеральная короста на потаенном теле русской поэзии». Различия между «либеральными» и «почвенными» произведениями он видит прежде всего в авторских ценностных установках: «У либералов во главу угла поставлена частная жизнь, свобода волеизъявления и сочинительства и все подобное, имеющее отношение в основном к фигуре городского человека, как правило — интеллигента. То, что касается взаимных отношений человека и его Родины, здесь почти всегда считается темой пустой и затертой, более того — государство однозначно совмещается с Родиной, и уже потому либеральный человек отчужден от почвы. Да и само название “почва” для него находится в одном ряду с сапогами, портянками, грязью, захолустьем и непросвещенностью...»
Материк русской жизни
Почвенная литература «государство от Родины отделяет принципиально: она внимательна к родовым знакам, нравственному чувству, которое способно объединить человека с его предками. Государство приходит и уходит, возникает и изменяется, а Родина остается незыблемой. Поэтому литература “почвенная” и “либеральная” так по-разному изображают исторические события, семейные коллизии, любовь».
Эта современная русская литература начала проявляться также на рубеже 60-х годов, когда благодаря образованию Союза писателей РСФСР «начался процесс неуклонного... ментального объединения художников, которые прочувствовали под ногами родную землю и осознали уже конституционально свой долг перед ней». Возникла «атмосфера русского художественного поиска, в котором цена традиции высока, а прозрение грядущего невозможно без оглядки на старину... образ Родины стал являться перед читателем все более объемно, а тяжкие времена ее летописи начали получать осмысление, порой далеко выходящее за границы собственно писательской творческой практики».
Примерами такого осмысления Лютый называет роман Леонида Леонова «Русский лес», произведения Василия Белова и Валентина Распутина, которых «литературные говоруны назвали “деревенщиками”». С ними «возник огромный материк традиционной русской народной жизни, воплощенной в слове, в образах и живых примерах, в деталях, именах, умениях и распорядке». Эти авторы «сражались за свою страну, спасая уже самые ее основы от поругания и уничтожения. Однако государство... было уже обречено — и собственной вненациональной доктриной, и людьми, вскормленными западной “манной” и находящимися на ключевых постах державы».
Одновременно и параллельно с укреплением течения литературы, посвященной русской почве, «на узловых точках литературного ландшафта... напитывалась соками нашей земли иная словесность, национально выхолощенная, словно обладавшая какой-то дистиллированной кровью. Она отодвигала наследников отечественной художественной традиции на обочину литературного процесса».
Однако русская литература, считает критик, «жива без всяких оговорок и сегодня очень разнообразна». Мировоззренческую особенность патриотов он видит в проявлении родовых и почвенных связей: «Не тобой все началось, и с твоим уходом все не закончится...» Одно время их упрекали в примитивизме формы. Однако лучшие из них освоили все ее богатство. Просто искреннее стремление говорить с читателем всегда ограничивает формальные изыски, «тогда как формализм без берегов есть свидетельство отсутствия твердой писательской руки».
Сам Лютый, как уже отмечалось отчасти, уверен, что формалистические искания отнюдь не бесполезны для литературы. «Исчерпав себя, они передают драгоценный опыт и умения реалистическому направлению, обогащают его оттенками, придают стилистике необходимую гибкость и способность отразить в искусстве слова новую реальность...»
В частности, современная поэзия, по мнению критика, «вобрала в себя интонации самые разные, формы порой причудливые и гротескные, антураж мистический и предметно документальный, духовные устремления как экзистенциально невыразимые, так и публицистически наглядные. Кажется, все вошло в нынешнюю русскую поэзию, взбаламутило ее содержание, сбило привычную иерархию прекрасного и безобразного — и оставило в растерянности читателя, доверчивого и сердечно не испорченного».
Однако практически все бытийные достижения русской поэзии, считает Лютый, «связаны со стихами, традиционными по форме». В середине второго десятилетия такая поэзия, по его мнению, достигла расцвета. Он видит в ней «новое мощное поколение... ему около пятидесяти лет, спектр его интересов и размышлений весьма широк и независим от идеологических разнарядок». Эта поэзия представлена именами Светланы Супруновой, Светланы Сырневой, Дианы Кан, Геннадия Ёмкина, Натальи Кожевниковой, Евгения Эрастова, Владимира Скифа, Евгения Семичева, Николая Зиновьева, Анатолия Аврутина, Марины Струковой, Юрия Перминова, Виктора Брюховецкого, Николая Беседина, Александра Нестругина...
Книги этих авторов и еще целого ряда поэтов «составляют фундамент современного здания русской лирики — многообразной, широкой по интонации, иногда легкой по речи и не забывающей о литературной игре, но всегда помнящей о собственном высоком призвании». Называя их продолжателями лучших традиций отечественной поэзии, чьи стихи отмечены «неодолимым притяжением ясности слога», Лютый видит в них «массу коллизий, чрезвычайно богатый оттенками язык, интонационную широту и способность совместить большое и малое».
В преддверии своего расцвета в то же самое время оказалась русская проза. «Пройдя очерковую фазу, “черноту”, подражание злободневному в 90-е и 2000-е годы, — пишет критик, — она выходит на новый уровень своего развития, когда глубокое эпическое дыхание руководит авторским слогом, а герои начинают жить собственной жизнью, а не отражать композиционные и стилевые схемы сочинителя...»
К числу лучших современных русских прозаиков Лютый относит Владимира Крупина, Виктора Никитина, Дмитрия Ермакова, Петра Краснова, Любовь Ковшову, Анну и Константина Смородиных, Василия Килякова, Лидию Сычеву, Наталью Моловцеву, Татьяну Грибанову, Веру Галактионову, Михаила Тарковского. Среди новых имен называет Андрея Антипина, Юрия Лунина, Андрея Тимофеева, Михаила Калашникова, Елену Тулушеву, Яну Софронову. Среди коллег-критиков — Михаила Лобанова, Юрия Павлова, Капитолину Кокшенёву, Валентина Курбатова, Владимира Бондаренко, Александра Казинцева, Сергея Куняева...
Из числа прозаиков Лютый выделяет тех, «которые художественными средствами выясняют: в каком времени мы живем, что вокруг происходит, как действовать, чтобы стало меньше искушений и зла, а также как не потерять собственную духовную и национальную идентификацию и сообщить ей импульс дальнейшего развития».
В последние годы, отмечает критик, «появились рассказы, повести и романы, в центре которых — самоидентификация русского человека как фигуры родовой и православной одновременно». Наиболее выразительными, каждый в своем роде, в одной из статей он называет большой роман Петра Краснова «Заполье», повесть Андрея Тимофеева «Навстречу» и повесть Михаила Тарковского «Полет совы».
«Заполье» он, в частности, считает одной из «самых серьезных книг о переходе русского человека от сна к бодрствованию, от социального обморока — к пытливому поиску главного содержания — и в прошлом, и в настоящем, и в будущем». Позволю себе и тут собственное замечание: оба мы совпали в оценках, назвав эту книгу, повествующую о 90-х годах, романом поражения. Правда, лично я, в отличие от Лютого, не дерзнул провести параллель с шолоховским «Тихим Доном» — а ведь так и есть... В целом же, по его мнению, художественная панорама всех трех упомянутых современных произведений, «пусть и выборочно, характеризует движение русской души сквозь три десятилетия испытаний и дает нам надежду на постепенное восстановление государства, для которого слова “человек” и “смысл” являются понятиями неразделимыми».
Открывая новые книги уже знакомых ему или еще не известных писателей, Лютый, по его словам, жаждет полноты, поскольку «горестными штрихами и радостными порывами нас уже перекормили». Ему «хочется прочесть книгу, в которой все было бы названо своим должным именем, сложное нарисовано с сочувствием и вниманием, а жизнь явилась бы... во всей своей непредсказуемости». Но, к сожалению, «в обществе, лишенном творческого эха, подобные вехи мимолетны».
Андрей Расторгуев




