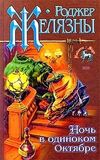«Общением с тобою я дорожу...»

Виктория Николаевна Торопова родилась в г. Свободном Амурской области. В 1956 году после реабилитации отца семья вернулась в Москву. Окончила филологический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова.
Работала в газете «Книжное обозрение», Госкомиздате СССР, издательстве «Русский язык». Публиковалась в ряде газет и журналов.
В настоящее время занимается исследованием творчества С.Н. Дурылина. Участвовала в подготовке книг «Нестеров в жизни и творчестве» и «В своем углу». Автор вступительной статьи к книге «“Я никому так не пишу, как Вам...” (переписка С.Н. Дурылина и Е.В. Гениевой)». Лауреат литературной премии им. С.Н. Дурылина. Живет в Москве.
Судьба писем Максимилиана Александровича Волошина и Сергея Николаевича Дурылина1 печальна. В РГАЛИ хранится только 20 писем Волошина из их обширной переписки. Только четыре письма Дурылина удалось найти в Мемориальном доме-музее С.Н. Дурылина. При переезде в Москву в 1933 году в Киржаче сгорел в железнодорожном пакгаузе архив С.Н. Дурылина, содержащий не только рукописи и собранные материалы для исследований, но и письма, книги с автографами авторов, фотографии... Пока недоступны документы, которые должны быть в архиве Дома-музея поэта в Коктебеле: письма Дурылина к Волошину, свидетельства о пребывании Дурылина в Коктебеле и т.п. «К сожалению, переписка Волошина с Дурылиным не сохранилась — и полной истории их взаимоотношений мы не имеем», — сетует директор Дома-музея М.А. Волошина в Коктебеле Владимир Купченко в статье «Сплетение судеб» на страницах газеты «Калининградская правда» от 7 апреля 2005 года.
В различных публикациях можно найти разрозненные сведения об их взаимоотношениях, но они не создают полной картины. Наша публикация в некоторой степени восполняет этот пробел.
Переписка, как и дружба Волошина и Дурылина, продолжалась восемь лет: с 1925 по 1932 год — год смерти Максимилиана Александровича.
Письма позволяют представить обоих корреспондентов в трагических условиях исторического времени. Обе личности ясно выражены перед лицом обстоятельств, в которые поставила их судьба: оба стали изгоями для властей предержащих, оба лишены средств к существованию, и только помощь друзей позволяет им выжить. Волошин знает, что переписка ссыльного Дурылина просматривается ОГПУ, поэтому самоцензура диктует нейтральные темы для обсуждения. Тем не менее между строк можно рассмотреть исторический фон, на котором протекает жизнь этих двух замечательных людей, и культурный контекст, в котором идет очень личный разговор.
Письма ценнее воспоминаний тем, что в них отразились события, мысли, переживания непосредственно в момент происходящего, так, как было, не затуманенные прошедшими годами и не откорректированные опытом последующих лет.
Датой знакомства с Максимилианом Александровичем Волошиным Сергей Николаевич называет 1910 год2. Осенью этого года Волошин был в Москве. Он заходит в издательство символистов «Мусагет», где печатаются его стихи, в «Общество свободной эстетики», основанное В.Брюсовым. Видимо, там они с Дурылиным и познакомились. С «Мусагетом» Дурылин сотрудничал во все годы существования издательства (1910–1918), постоянно бывал и в «Обществе свободной эстетики». Мог Волошин заглянуть и на занятия Ритмического кружка А.Белого, участником которого был С.Н. Дурылин. Ирина Алексеевна Комиссарова, жена Дурылина, вспоминала, что встречались они и в особняке Маргариты Кирилловны Морозовой, где собирался цвет московских философов на заседания Религиозно-философского общества (РФО), секретарем которого С.Н. Дурылин был с 1912 года до его закрытия в 1918 году.
Волошин и Дурылин присутствовали на заседании РФО 1 ноября 1910 года, когда на квартире М.К. Морозовой собралась «туча народа» (Г.А. Рачинский, С.Н. Булгаков, Н.А. Бердяев, Е.Н. Трубецкой, В.Ф. Эрн, В.Брюсов, Эллис и другие) слушать доклад А.Белого «Трагедия творчества. Достоевский и Толстой». «Уход» Толстого потряс всех. Как если бы гора двинулась, по евангельскому слову. Все были взволнованы, возбуждены. Доклад, написанный гораздо раньше, был прочитан, но разговоры и споры свелись к Толстому и его «уходу». «Это был замечательный вечер, — пишет Дурылин. — Говорили, говорили, спорили, спорили со всем блеском таланта и тонкой культуры, а в душе у каждого, — я верю и почти знаю, что у каждого, — поднимался вопрос: “А он что? Где он теперь? Куда он идет? И почему мы — не идем?” Было и радостно, и стыдно»3.
В 1911 году стихи Дурылина и Волошина напечатаны в поэтическом сборнике «Антология», вышедшем в издательстве «Мусагет». У Волошина здесь восемь стихотворений, у Дурылина, под псевдонимом Сергей Раевский, — четыре, и три из них — это сонеты, посвященные Франциску Ассизскому. Их соседями в сборнике были Андрей Белый, А.Блок, М.Цветаева, Н.Гумилев, Вяч. Иванов, С.М. Соловьев и другие менее известные и совсем мало известные в то время поэты. В том же году С.Н. Дурылин подарил Волошину4 написанное им (под псевдонимом Сергей Северный) «Житие св. Франциска Ассизского»5, вошедшее в сборник «Сказание о бедняке Христовом», подготовленный им совместно с А.П. Печковским — переводчиком с латыни и староитальянского (М.: Мусагет, 1911). В сборнике «Поэты Бельгии» (сост., ред., вступ. ст. С.Н. Дурылина. М.: Универсал. б-ка, 1915) опубликованы два стихотворения Э.Верхарна в переводе Волошина.
Отношения, сложившиеся тогда, в 10-е годы ХХ столетия, были неоднозначны. Только что закончился период «блужданий» Волошина: его путешествий по странам и увлечения буддизмом, католичеством, магией, масонством, оккультизмом, теософией, антропософией и Р.Штейнером — «Период больших личных переживаний романтического и мистического характера», как сам он определил. Дурылин не разделял этих увлечений, а к Штейнеру относился резко отрицательно. «Я ему чужой, и Россия ему чужая», — писал он А.А. Сидорову6 в год (1914) активного увлечения Волошина штейнерианством.
Дурылин вспоминал, как в его окружении относились к Волошину той поры: в Болшеве в 1941 году, просматривая «Антологию», Дурылин с грустью думает о Волошине и записывает:
«Милый, милый Макс! Он умер мудрецом, поэтом, художником, человеком в своем Коктебеле в 1932 году, любимым и оплакиваемым всеми, кто его знал в эти годы — 20-е и 30-е.
А тогда, — совестно признаться, — мы подсмеивались над “горелым, бурым, ржавым цветом трав” в его стихах, над спондеями в его ямбах (Сидоров ухитрился поздравить любезно его с тем, что в его стихах есть “игра спондеями”, — это что-то [от] медвежьего танца), подсмеивались над его парижским пальто, блестящим цилиндром, над его толщиной и бритым подбородком (Садовский даже дерзнул сказать ему: “Вы похожи на Репетилова при разъезде на [крыльце]”), над его чтением “Акселя”7, Поля Клоделя8, его “Дору” (? — В.Т.) у Эллиса и т.д. Когда я встретился с Максом в 1926 году у него в Коктебеле, — он был другой, — или тот же, но впервые познанный в правде его высокого духа и таланта.
Я написал горячие стихи к этому новому для меня Максу — мудрецу, поэту, мыслителю, человеку, — и вплоть до его смерти были связаны крепкой дружбой, были на “ты”.
Теперь стихи его, помещенные в этой книге, радуют меня своей глубокой правдой: я знаю теперь, что все в них подлинно: любовь к матери-земле, к ее великой пустыне, к этой “Киик-Атламой костистой”, к южному солнцу — и к великой творческой мудрости, воплощенной во всем этом необозримом окоеме Земли, моря и неба»9.
По поводу «дерзости» Б.Садовского находим информацию в письме Дурылина к поэту В.К. Звягинцевой от 15 декабря 1930 года:
«Однажды — тому 20 лет! — мы шли по Никитской ночью: Макс, бритый, изящный, в шубе нараспашку и в цилиндре, Борис Садовский и я — и, посмотрев на [церковь] Большое Вознесенье, Садовский любезно изогнулся к Максу:
— М[аксимилиан] А[лександрович], вы похожи на...
Макс ждал. Борис Ал[ександрович] был пушкинист, Никитская — пушкинская улица (венчался), — стало быть, похож на что-нибудь пушкинское, — ну, на Онегина, что ли: и цилиндр, и трость, и “морозной пылью серебрится его бобровый воротник”.
Ан нет:
— ...на приятеля Чацкого, что встретился с ним “при разъезде, на крыльце”.
Макс добродушно рассмеялся, и ехидство Садовского пропало даром. А может быть, это было не ехидство, а волжская насмешливость, дерзость на языке бойкого нижегородца»10.
Дурылин вспоминал, что в 1913 году Волошин приходил к художнику М.В. Нестерову с предложением написать о нем монографию. Боялся, что Нестеров откажет ему из-за критического отзыва о картине «Святая Русь»11. Но Нестеров принял Волошина приветливо и свое согласие дал. Обещал даже помогать своими воспоминаниями о детстве, годах учения и т.п. Дурылин замечает: «Волошин вышел от Нестерова, так сказать, авторизованным автором монографии о нем». Но помешало случившееся в это время выступление Волошина на диспуте, устроенном 12 февраля 1913 года в Политехническом музее обществом «Бубновый валет» по поводу ужасного случая: какой-то сумасшедший порезал ножом картину Репина «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». Волошин выступил с докладом «О художественной ценности пострадавшей картины Репина». Дурылин замечает, что «Волошин оказался не к месту и не ко времени»12. Нестеров в письме к дочери, Ольге Михайловне, от 17 февраля 1913 года пишет: «Кстати о Репине, его недавно в публичном заседании, на которое неизвестно зачем его понесло, — тяжко обидели “Бурлюки” и “Максимьян” Волошин (он “божится”, что предки его были запорожцами). Теперь общество13 и художники всячески выражают Репину сочувствие, меня тоже пытала одна газета14, и я высказал полное сочувствие старику Репину, а своему биографу — Максимилиану — порицание. Теперь, вероятно, хорошенькую “монографию” мою напишет “запорожец” <...>»15 Уговор о монографии расстроился.
В 1925 году вернувшемуся из первой — челябинской — ссылки Дурылину врачи советуют поехать на лечение в Крым. Он пишет Волошину письмо, испрашивая разрешение приехать в его дом, за два года до этого (1923) превращенный в «бесплатный дом отдыха для творческой интеллигенции». 25 апреля Волошин отвечает: «Дорогой Сергей Николаевич. Буду очень, очень рад видеть Вас у себя этим летом...» — и подробно сообщает об условиях проживания у него. И заканчивает письмо словами: «А Вас, Сергей Николаевич, я буду особенно рад встретить снова. Максимилиан Волошин».
Но у Дурылина в этом году не сложился приезд в Коктебель. Летом он живет в Муранове, куда приглашен Николаем Ивановичем и Софьей Ивановной Тютчевыми в качестве домашнего учителя правнуков поэта — Кирилла и Ольги Пигаревых.
В июне 1926 года Дурылин едет в Коктебель. Одновременно с ним едет его новый и очень большой друг Елена Васильевна Гениева16 с детьми. Они поселились вначале на даче Харламова, а вскоре Волошин предоставил им бесплатно две комнаты в своем доме. В это лето Дурылин и Волошин крепко подружились. Дурылин увидел нового для себя Макса и написал об этом стихотворение17:
М.А. Волошину
Я знал тебя на севере, где Город,
Юродствуя о дьяволе, стоит (зачеркнуто: кричит. — В.Т.),
Где облик человеческий расколот,
Как статуя, о сталь холодных плит. (Над словом «сталь» надписано другое — нрзб. — В.Т.)
С тех пор прошло... нет, не пятнадцать лет:
Десятилетий топких вереницы (зачеркнуто: вязких. — В.Т.), —
Коль хронологию имеет бред,
И у бесов есть счетные таблицы.
И я пришел к тебе на юг. Внимаю
Твоим речам, и мудрым, и простым.
Смотрю на дом, на книги: и сверяю
Твой новый облик с ведомым былым.
И над тобой, над новым я стою
Как над осенней плодоносной нивой.
Каким дождем Господь кропил твою
Пшеницу волею многолюбивой!
И, сев приняв, хранил его покоем,
Таил в земле, в сей скрыне глубины,
И для налива — зноил ярым зноем,
И нежил ветром ширь его волны.
И пажить — вот — под золотом густым:
Она питать, не только тешить может,
Как колосом разгульно молодым.
Блажен, кого Господь, любя, умножит?
И осчастливит ростом и страдою,
И всходами, и жатвой золотой!
Я, как над нивой зрелой, над тобой
Стою — и радости своей не скрою!
Коктебель, 17.VI
У Дурылина в лето 1926 года в Коктебеле прекрасное настроение, творческий подъем. Он пишет стихи, начинает поэтическую серию «Старая Москва», шестую тетрадь «В своем углу». С Волошиным они подолгу гуляют в окрестностях Коктебеля, по пустынным тропам поднимаются в горы и говорят, говорят. У них не только взаимная симпатия, но и общие интересы, и взгляды на литературу, на жизнь... О чем они говорят? Некоторые интересующие их темы (проблема времени, некоторые вопросы православия и католицизма, прочитанные книги и др.) обсуждаются в публикуемых письмах. Некоторые можно восстановить, сравнив записи того и другого в дневниках, письмах к другим людям, в статьях, мемуарах и др. У обоих есть записи о ненадежности человеческой памяти, об относительности воспоминаний, особенно записанных через большой промежуток времени, об одиночестве человека среди людей, оба писали о живописи В.Сурикова, о творчестве К.Богаевского, М.Нестерова, оба увлечены Франциском Ассизским, у них общий круг знакомых — поэты, писатели, философы. И конечно, они читают друг другу свои стихи. Дурылин рассказывает Волошину о Доме двух поэтов в Муранове — Е.А. Баратынского и Ф.И. Тютчева. Сотрудник Мурановского музея Татьяна Петровна Гончарова18 предполагает, что под впечатлением этих рассказов Волошин написал (в декабре 1926 года) стихотворение «Дом поэта». Дурылин читает книги из библиотеки Волошина, в их числе сборник стихов Бодлера на французском языке. (Помимо греческого и латинского, Дурылин знал французский и немецкий языки.)
С высокой площадки горы Хоба-Тепе Дурылин смотрит на два моря: Черное — «как сплошной сапфир», и далекое Азовское — «голубеющее полоской», любуется синей каемкой крымских гор. Надышавшись горным воздухом, проникшись величием и красотой увиденного, замечает, каким лишним и ненужным воспринимается здесь человек. И рождаются стихи:
<...> Текут потоки туч седой волною
Над гребнем гор, у лунного серпа.
И бытия с небытием межою
Готова быть здесь каждая тропа. <...>
<...> И сердце слышит горный разговор,
И, вновь омыта звездною волною,
Душа роднится с горней глубиною19.
В волошинском доме летом 1926 года собралось много общих знакомых: поэты В.К. Звягинцева, С.М. Соловьев (Дурылин называет его «мой alter ego»), художники Е.С. Кругликова, А.П. Остроумова-Лебедева, старые друзья — А.А. Сидоров и А.Г. Габричевский, С.В. Шервинский и др.
На балконе под серебристыми ветками маслины «возлежа» на тюфяке и циновке, попивая красное вино с водой и заедая пушистыми персиками, Дурылин, Габричевский и Соловьев ведут неспешные беседы, читают стихи. С А.А. Сидоровым, другом юности Дурылина, они заходят к Анне Петровне Остроумовой-Лебедевой посмотреть написанные ею в это лето портреты С.В. Шервинского, В.В. Вересаева и других и слушают ее рассказ, как она в 1924 году пыталась написать портрет В.Брюсова и как он ей не давался. «Выходил не Брюсов, а какой-то неприятный господин с лицом Брюсова». А потом начались мистические явления, заставившие ее совсем отказаться от работы над портретом Валерия Яковлевича: то неожиданно для себя она стерла почти готовый портрет, то умерший Брюсов среди бела дня возник перед нею в странном образе...
Однажды вечером жена Волошина Мария Степановна пела “Зарю зарницу”, и под впечатлением Сергей Николаевич написал стихотворение “Ты ль пела, иль тобою пел...”»20
Волошин в это лето подарил Дурылину машинописный экземпляр поэмы «Путями Каина» с дарственной надписью: «Милому Сереже, принесшему мне наголосок из самых глубоких недр русских пропастей — с братской любовью — Макс. Коктебель, 2 сентября 1926»21.
Стихотворение «На дне преисподней»22 Волошин переписал от руки для Дурылина, пометив: «Для Сережи Д.».
На дне преисподней
С каждым днем все диче и все глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни душит —
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.
Темен жребий русского поэта —
Неисповедимый рок ведет:
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского — на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну,
Горькая детоубийца — Русь,
И на дне твоих подвалов сгину
Иль в кровавой луже поскользнусь, —
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
(после смерти Блока и Гумилева)23
Максимилиан Волошин для Сережи Д.
Наблюдая взаимоотношения писателей в волошинском доме, С.Н. Дурылин записывает: «Макс — многострадальный “гостинник” здешней литературной гостиницы, — и, думаю, за терпеливое несение этого труднейшего послушания ему простятся все его литературные и житейские грехи»24.
А в письме к поэтессе В.К. Звягинцевой в 1928 году объясняет: «Мария Степановна — гостинница. Знаете, что это значит? Это такое послушание было в женских монастырях: заведует гостиницей: всех принимай, всех привечай, всех устраивай, примиряй, успокаивай, а в то же время блюди монастырское добро, обычай, тишину, свое духовное устроение и пр., и пр. Легко ли это? Послушание это считается одним из самых трудных. Вот вам загадка Марии Степановны. Макс суетливо живет? Верно. Но тогда был бы он не Макс, живи он иначе. В нем есть драгоценные черты, свои, свои, собственные»25.
Летом 1926 года Сергей Николаевич сделал М.А. Волошину несколько подарков. О них упоминает В.П. Купченко: «Свою книжку “Начальник тишины” (1916) он (Дурылин. — В.Т.) надписал Волошину (24 июля): “Дорогому другу Максу, автору великолепного «Аввакума», в день второго чтения, с особой любовью дарю эту книжечку, писанную не без мыслей аввакумовских”. 3 августа был сделан еще один подарок: оттиск рассказа “Жалостник” (из журнала “Русская мысль”, 1917) — с надписью: “Дорогому Максу — столь чудесно чувствующему Аввакумову Русь — как слабое отражение этой Руси в России — с искренней любовью приносит этот рассказ в дар — автор»26. 17 августа в Коктебеле отмечали именины М.Волошина. В этот день Дурылин поднес хозяину проект «Предвратной надписи к Дому поэта»:
Здесь сказка в сказку вплетена,
Здесь в песне — песня верно спета,
И навсегда обручена
С душой земли душа поэта.
Для празднования именин Волошина Дурылин написал сценарий чествования именинника: «Коктебелиана. Кантата для хора, solo и оркестра в честь М.С. и М.А. Волошиных»27.
Чувствуется, с какой добродушной улыбкой Дурылин записывает: «Макс — толстый, добродушный, добрый, сущий аббат Куаньяр Анатоля Франса, переодетый в костюм из “Виндзорских проказниц”, — отвечает на все католические зазывы Сергея Михайловича [Соловьева]»28.
С теплой симпатией описывает Дурылин сценки взаимоотношений Волошина с детьми: «Туську29 уверили, что Макс — большой плюшевый медведь. А он был в куртке из бумажного бархату. С пушистыми, гривастыми волосами, огромный и толстый, он сидел на диване и ел сладкое. Туська осторожно дотронулась до него ручкой и, робко коснувшись его, провела ручкой по бархату, — и тотчас ее отняла, — и вздохнула. Макс, улыбаясь, не шелохнулся. Тогда Маруся сказала ему:
— Потанцуй!
Он встал и, как медведь, стал топтаться на месте.
Туська окончательно уверилась, что Макс — плюшевый медведь. <...>
Однажды, в дружеской, близкой семье, Максу показали грудного ребенка в пеленках. Он что-то пробормотал и отвернулся быстро от него. Маруся возроптала:
— Ну, что ж ты, Мася! Тебе показывают Вовочку, а ты даже ничего не сказал.
Смущенный Макс промолвил:
— Маруся, но я пожал ему руку, а он ничего не ответил...
Это чудесно, но не чудеснее ли вот что: некий мальчик, наслушавшись разговоров взрослых, спросил Макса:
— Этот Кнут зовут Гамсун. А разве у всех кнутов бывает имя?
И Макс очень огорчился, что не мог сказать, как зовут тот кнутик, который показывал ему мальчик»30.
В Коктебеле С.Н. Дурылин познакомился и подружился с близким другом Волошина — художником К.Ф. Богаевским, живопись и человеческие качества которого очень ценил: «В Богаевском есть тот долгий и мудрый настой тишины, который делает глубоким искусство и душу художника. <...> Богаевским провидено некое лицо земли, верный образ “ее самой”31, — прекрасное, царственное лицо, по которому века измен, страданий, любви и муки, — провели уже неистребимые борозды морщин <...> и судорога землетрясения <...> бессильна над пейзажем Богаевского. <...> Все было — все будет: и “трус”, и “глад”, и “огнь”, и “меч” — и нашествие “иноплеменных”, —
А земля пребывает вовеки32.
Вот это таинственное, ничем и никак не определяемое “Пребывающее земли”, не колеблемое в своей красоте никакими землетрясениями, — и дает Богаевский на своих картинах, рисунках, эскизах»33.
В феврале 1927 года М.А. Волошин и Мария Степановна приехали в Москву. Среди других адресов в записной книжке поэта был и адрес Дурылина: Милютинский переулок, 15, кв. 2. В Государственной академии художественных наук (ГАХН) 26 февраля открылась персональная выставка акварелей Волошина. Дурылин по просьбе поэта выступил на вернисаже с докладом о его творчестве: «Киммерийские пейзажи М.Волошина в стихах»34. Он проанализировал и поэтические, и живописные творения, и в частности, развил признание самого поэта: «Мои стихи о природе утекли в мои акварели».
Свой доклад Дурылин начал с заявления: «Открывая выставку пейзажей М.А. Волошина, заранее должно знать: выставка не полна». И продолжил: «Выставка пейзажей М.Волошина и не может никогда быть полна: какое бы число его превосходных акварелей ни выставили, оно не передает всего пейзажного творчества Волошина: если б решено было дать действительно полную выставку киммерийских пейзажей Волошина, пришлось бы рядом с пейзажами, писанными красками, развесить пейзажи, писанные стихами, рядом с его акварелями — его сонеты.
К своей отчизне, к своей возлюбленной Киммерии поэт обратился однажды с признанием:
Я сам — твои глаза, раскрытые в ночи...
Эти глаза увидели в облике “Киммерии печальной” страну суровой красоты и прекрасного пустынного покоя, где извечная мука творящей и творимой земли навсегда сопряглась с вековыми муками человечества, творящего историю. Художник в своем прекрасном ремесле раскрывает глаза на великолепные образы киммерийской страны; но ему же дано было счастье сделать и еще одно признание, обращенное к ней же:
Я сам — твои уста, безгласные, как камень!
Эти уста, — строгие и печальные, страдающие и прекрасные, — самой Киммерии нашептали то, что открывает о ней поэт Максимилиан Волошин.
Никогда еще в русской поэзии поэт не был так тесно, так глубоко вхож в пейзаж своей отчизны, как Волошин — в пейзаж восточного Крыма. Его стихи входят в этот пейзаж так же, как сам пейзаж входит в форму и дух его стихов. <...> Поэт верен своей земле до глубины ее глубин. Как ее суровые кряжи, суров тот материал, из которого он строит прекрасное здание своей киммерийской поэзии. Из всех русских поэтов один он, суровый киммериец, не боится кряжеских, тяжких спондеев, как каменной, косной плоти своих стихов...»
11 марта Дурылин и Волошин были в гостях у общего знакомого — филолога, исследователя русской поэзии Ивана Никаноровича Розанова. А 13 марта Дурылин присутствовал на творческом вечере Волошина в ГАХН35. Это был благотворительный вечер — в помощь поэту Максимилиану Волошину, стихи которого не печатали.
Лето 1927 года Сергей Николаевич решил провести в Коктебеле. 3 июня он и Ирина Алексеевна Комиссарова приехали в Коктебель («на все лето» — пометил у себя М.Волошин). Вместе с ними приехала Елена Васильевна Гениева с детьми. Но вдруг он сорвался в Москву, узнав из газет — так это объясняет Волошин в «Истории моей души» (М.: Аграф, 1999) — об убийстве в Варшаве советского дипломата П.Л. Войкова. Какое отношение это убийство могло иметь к Дурылину, пока не ясно, ни в каких известных источниках упоминания об этом нет. Есть только наши предположения: вероятнее всего, он предвидел начавшиеся обыски и аресты и торопился что-то уничтожить в своих бумагах.
Через один час после того, как сошел с поезда в Москве, Сергей Николаевич пишет письмо Е.В. Гениевой в Коктебель: «Максу я послал поздравление с рождением с дороги. Получил ли он его? Поздравьте его от меня и Ирины, а Марусю — в день ея ангела — и поблагодарите еще раз за его чудесное, высокочеловеческое добро. Так и скажите ему. Я еще больше полюбил его и уже не разлюблю никогда. Ах, если б было хоть 10 таких Максов на всю нашу землю! — звезды бы над нею радостнее горели!»36
10 июня 1927 года Дурылина арестовали. После четырех месяцев заключения в Бутырской тюрьме Дурылина отправили этапом в ссылку в Томский округ под гласный надзор ОГПУ. Благодаря хлопотам друзей удалось поселиться в Томске, где были университет, фундаментальная библиотека и была надежда найти работу.
В Томске пришлось жить в тяжелых условиях: жилье было сырое и холодное, Дурылин часто болел. Работу найти не удалось из-за вмешательства ОГПУ. Руководство университета предложило ему должность заведующего кабинетом гравюр при библиотеке. Но несмотря на то, что работа не была связана ни «с читателями», ни с «идеологией», проконсультировавшись «где надо», вынуждены были отказать «по причинам, от библиотеки не зависящим».
Выжить удалось благодаря друзьям, которые присылали в Томск и деньги, и лекарства, и книги и морально поддерживали. А лечение, питание и уход обеспечивала Ирина Алексеевна, которая поехала в ссылку за своим духовным отцом, помня наказ отца Алексия Мечёва37 перед первой — челябинской ссылкой Дурылина: «Поезжай с ним, он нужен народу».
Волошин обеспокоен судьбой Дурылина, что видно из его первых писем в Томск.
С 1927 года начинается активная переписка, оборвавшаяся только со смертью поэта.
В те годы — конец 20-х — оба они очень нуждались. Трогательно, что в такой ситуации они старались поддержать друг друга, хотя бы изредка посылая посылочки с книгами и с продуктами, какие удалось достать. Волошин присылает в Томск акварели — в подарок и на продажу, так как был период, когда только акварели его «кормили». Стараясь поддержать друга морально, в посылочки вкладывает ветки цветущей маслины и полыни, запахи которых любил Дурылин.
На обороте одной акварели, на которой изображены дом поэта, Карадаг и коктебельский залив, освещенные громадной луной, Максимилиан Александрович написал стихотворение «Готовность»38:
«Я не сам ли выбрал час рожденья,
Рок и царство, область и народ,
Чтоб пройти сквозь муки и крещенье
Совести, огня и вод?
Апокалипсическому зверю
Вверженный в зияющую пасть,
Павший глубже, чем возможно пасть,
В скрежете и в смраде — верю!
Верю в правоту верховных Сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: “Ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия...
Если ж дров в плавильной печи мало:
Господи! — вот плоть моя...”
Милый Сережа, позволь мне посвятить тебе это стихотворение, написанное воистину “на дне преисподней” — в 1921 году в Феодосии39.
Максимилиан Волошин
19 18/11 27 г.
Москва».
Волошин часто консультировался с С.Н. Дурылиным по вопросам иконографии и православия, зная энциклопедические познания Дурылина в этой области. Свидетельства тому в его письмах. Он вносит правку Дурылина в стихотворение «Сказание об иноке Епифании». Работая над поэмой «Святой Серафим», просит у Дурылина уточнений в понятиях сатаны и дьявола. По совету Дурылина старается достать Минеи, просит прислать ему тексты канонов. Зная, с каким вниманием относился Волошин к советам Дурылина, трудно понять, по каким автографам печатаются в наши дни тексты стихотворения «Владимирская Богоматерь», — часто с некоторыми разночтениями, но всегда без учета советов Дурылина, высказанных с «иконографической и православной точки зрения» в его письме от 19 мая 1929 года.
После 1927 года поэтические сборники Волошина перестали издавать в СССР. Все свои новые стихи он посылает Дурылину в рукописи. В 1928-м Сергей Николаевич с горечью записывает по поводу «непечатания» стихов Волошина: «Единственный всероссийский поэт, — поэт, чьи стихи помнят, ищут, повторяют, переписывают <...> как учили наизусть и переписывали когда-то стихи Пушкина, Хомякова, Лермонтова...»40 И вспоминает разговор, услышанный в Коктебеле: «Е.Ланн, переводчик и сотрудник разных современных изданий, которого фамилию в Коктебеле в 1926 году произносили по-французски (L’ane41), говорил Максу по поводу литературной судьбы Макса:
— Вы виноваты в том, что вы не ладили с редакторами. Литература — это то, что издано. Все прочее — не литература. Издано то, что принято редактором. Писатель, не признанный редакторами, не есть писатель: он просто не существует.
Это отвратительно, конечно; и сказано было дружески нахально. Но в самом деле, кто такое писатель? Тот, кто пишет, — или тот, кто издан? <...> Изданное — есть литература (надо бы переиначить название: не литература, а эдитура42, что ли): вот чего хотят Ланны. Это им, конечно, выгодно: они изданы, следовательно, они существуют: они писатели. А изданы они потому, что “ладить с редакторами” считают заповедью для себя. Макс, однако, сам на себе показал, что эдитура не есть еще литература: он — вне эдитуры, но его читает вся Россия.
И Пушкина стихи в печати не бывали, —
Что нужды? Их и так иные прочитали43».
Дурылин высоко ценит и личность, и творчество Волошина. «“Русь” [Волошина] не забудется никогда. Его облик поэта, мыслителя и человека — радость и украшение не только современной, но вообще русской поэзии»44.
Письма Волошина 1928–1930 годов полны горечи от обрушившихся неприятностей, а обычные жизнерадостность и устойчивость против обстоятельств ослабли после инсульта, случившегося 9 декабря 1929 года. Дурылин сообщает Е.В. Гениевой, что получает от Макса грустные-прегрустные письма.
В 1929-м Дурылин в письме к З.В. Работновой приводит отрывок из волошинского «Заклинания Марусе», относя все пожелания к самому Волошину:
«<...> Все наважденья, страхи и обиды
Скользят, как тени, в зеркале души,
Глубинной тишины не нарушая.
Будь благодарной, мудрой и смиренной.
Люби в себе и взлеты, и паденья,
Люби приливы и отливы счастья,
Людей и жизнь во всем многообразьи,
Раскрой глаза и жадно пей от вод
Стихийной жизни — радостной и вечной.
Как хорошо! И это — не фразы: сам Макс так и живет. Что он вынес! Сколько перенес в голод в Крыму (людоедство было вокруг), в землетрясение, во всяческие годины бед, — и я не знаю человека бодрее и сильнее. Попробовать жить, черпая из глубины себя, из своего собственного золотого фонда, мы не решаемся, — а когда попробуешь — как хорошо! Я так жил в месяцы, когда жизнь моя вся заключалась во мне: в июне–сентябре 1927 года (в Бутырской тюрьме. — В.Т.) — и, как видите, выжил, и был бодр и даже весел»45.
Узнав о смерти Волошина46, Сергей Николаевич плакал. Все его письма друзьям в этот период полны горьких слов о потере друга, а для русского искусства — поэта, философа, мыслителя, художника.
«О смерти Макса я узнал из “равнодушных уст” — из холодного объявления в “Известиях”, — пишет он поэтессе В.К. Звягинцевой 8 сентября 1932 года. — Открытка Маруси, посланная 14-го, блуждала где-то по донским шахтам и пришла ко мне поздно. <...> Вот мысль, которая не покидает меня: у Макса была жизнь, а не только творчество символиста. Он жил и писал всегда с одним стремлением (а я его знал с 1910 года!) —
Стихии чуждой запредельной
Стремясь хоть каплю зачерпнуть!47
От этого он был иной, чем все, чем даже его собратья. В жизни Брюсов и А.Белый были литераторы; Вяч. Иванов — литератор и ученый; Блок... и его жизнь была богема, цыганщина (что одно и то же), редакция, книжка стихов. У Макса было не то. <...> Все теперь, по рытвинам жизни, бегут, спешат, гонятся, сверкая пятками, отбивая дробь носками, — Макс один шел своими стопами, шел с величайшим достоинством, сверяясь не с верстами, наставленными справа и слева, а с компасом в своей собственной груди, с сердцем. Этот компас имел стрелку, всегда верно показывающую “север”: тот магнитный полюс зла, лжи и неблагородства, который должен быть минуем при всех путях и тропах вправо, влево, вперед, назад. Я не знаю за последние 15 лет человека, который, держась этого компаса (единственно обязательного для каждого из нас), так же безукоризненно, честно, мудро и верно прошел бы путь свой, как Макс. Не знаю, — а ведь знал я за это время сотни людей, перебирая которых в памяти восклицаю про себя:
Какая смесь одежд и лиц,
Племен, наречий, состояний!48
Вы любите Пушкина, и я люблю, и все мы любим. А вникаем ли мы в высокий и страшный смысл его великого увета:
Служенье муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величаво49.
Приложите это требование величайшего из поэтов к Брюсову, Блоку, Белому, к кому угодно, — о, сколько “суеты” цыганской, антропософической, какой угодно откроется в их биографиях, и как мало “величавого” в их “прекрасном”. Я знал и Макса в пору его “суеты”. Когда же я увидел его после долгой разлуки, в 1926 году, когда я услышал об анналах его жизни за самые ответственные годы, когда я познакомился с “Путями Каина” и многим другим, когда, наконец, теперь слышу о его кончине и погребении, — я знаю, что он исполнил труднейший из заветов:
Служенье муз не терпит суеты.
Прекрасное должно быть величаво.
Да, это так.
А как это много, о том узнаешь по-настоящему только к старости.
А все-таки его нет! И я не могу с этим свыкнуться. “Нет” — это значит: нет Коктебеля, нет дома, нет книг, нет целого куска Крыма, с горами, с небом, с людьми, с Человеком.
А чужие люди в его доме — это до такой степени нестерпимо, что хочется, чтобы дом поэта смыло Эвксинскою волною, погребло на дне, под Карадагом»50.
Через два дня — 10 сентября 1932 года — делится своим горем со своим добрым знакомым, профессором МГУ Николаем Калинниковичем Гудзием: «В его (Волошина. — В.Т.) жизни было сознательное искание и, думается, обретение того, что Бодлер называл “correspondances51” и чем Гёте закончил 2-ю часть “Фауста”. Он шел упорно к такому строю лиры и жизни, чтоб можно было сказать: Жизнь и поэзия — одно.
У него был символизм действования — оттого в жизни его и в поэзии было много тех “касаний мирам иным”, о которых повествуется у Достоевского. Для него ветка маслины была не только прекрасный предмет (или предмет прекрасного), не только художественный образ, но и символ — целый увет и прообраз бытия и действования. Каждую весну он присылал мне ящичек с цветущими ветками маслины. Он в жизни и в поэзии шел всегда — а realia ad realiora52.
Ну, нет его. Надо приучить себя к этому слову “нет”.
Нет, не верю. Нет, еще не верю»53.
К.Ф. Богаевский, узнав, что состояние поэта ухудшилось, дважды пешком ходил к нему в Коктебель из Феодосии, вызвал врача, который не оставил надежды на выздоровление. Богаевский письмом известил Дурылина о безнадежном состоянии Волошина. В ответ Дурылин пишет 28 сентября 1932 года:
«Милый Константин Федорович!
Целая вечность прошла с тех пор, как я получил Ваше письмо54. За это время умер Макс.
Ваше письмо приготовило меня к его смерти. Я простился с ним, читая и переживая Ваше письмо, и известие о его кончине только растравило, а не нанесло рану. Потом пришли отклики на его смерть. В печати — позорно мало: В “Известиях” — только публикация Союза писателей, в “Лит[ературной] газ[ете]” статья, которую лучше бы заменить полным молчанием. Но в письмах, от всех решительно, кто лично даже и не знал Макса, — глубокое сожаление, истинная и искренняя скорбь. Чувство у всех: похоронили последнего, бесспорного, поэта. <...>
Вы когда-то написали превосходную вещь “Воспоминания о Монтенье”55, которую доселе ношу в своем сердце и держу в своих глазах. Вот бы Вам, милый друг, написать такие же “Воспоминания о Максе” — был бы запечатлен, в творческом единстве, его дух, его “любовь и радость бытия”, покровом мечты и виденья распростертые над Коктебелем. Это был бы лучший памятник ему. <...>
О Максе Ирина поплакала. Вот был он человек большой, сложный, утонченно-требовательный к людям, а ее любил и понимал. Она платила ему тем же. И теперь нет-нет да и всплакнет о нем. Вот и я следую ее примеру. И сейчас глаза у меня не на сухом месте»56.
Марию Степановну Сергей Николаевич старается утешить, насколько это возможно: «Знайте, Маруся, что наш дом — всегда Ваш дом. Мы поделимся с Вами последним куском хлеба, и это будет радость для нас. <...> В Максе был подлинный свет внутренний. Он и светил, и грел, и обогащал всех, кто к нему приближался. Я всегда считал его дружбу за великое счастье». «В наше время он был, быть может, единственный человек, который вполне, всецело, навсегда остался самим собою и от которого шло неизменное благоволение людям и высокое благословение жизни. Его нежно, горячо любили, и я не знаю человека, который бы его не любил или ненавидел. Меня известили из одного издательства, что они собираются издать книгу “Рисунки русских писателей”, где особая глава будет уделена Максу... Я пока перепишу все его письма ко мне, постараюсь собрать его письма к другим друзьям»57.
Сергей Николаевич составил для Марии Степановны «программу», как увековечить память о Максимилиане Волошине, как сохранять его архив и пополнять его воспоминаниями своими и его друзей... По просьбе Дурылина, отвечая на его специально продуманные вопросы, Мария Степановна и К.Ф. Богаевский пишут воспоминания о Волошине — поэте, художнике, человеке.
Дурылин начал собирать письма Волошина и материалы о нем, пополнив папку «М.А. Волошин» в своей обширной папкотеке. В его архиве хранятся письма К.Ф. Богаевского к художнику К.В. Кандаурову, к Волошину, переписанные для Дурылина рукой жены художника — Жозефиной Густавовной Богаевской58. На моей памяти в 60–70-е годы у Ирины Алексеевны Комиссаровой, бережно хранившей и обрабатывавшей архив С.Н. Дурылина, сохранялось большое количество акварелей М.А. Волошина, рисунков, акварелей и автолитографий К.Ф. Богаевского. Позже значительная их часть была приобретена Симферопольским художественным музеем.
* * *
Письма М.А. Волошина к С.Н. Дурылину публикуются по автографам, хранящимся в РГАЛИ, в фонде С.Н. Дурылина (ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 480, 315 и оп. 2, ед. хр. 276; 20 писем). Письма С.Н. Дурылина к М.А. Волошину публикуются по машинописным копиям, находящимся в Мемориальном доме-музее С.Н. Дурылина в Болшеве (МДМД, Мемориальный архив, фонд С.Н. Дурылина, КП-324/60, КП-324/61). При ссылках на рукопись «В своем углу» (РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 315) указываются номер тетради и номер главки. При ссылках на книгу «В своем углу» (М.: Мол. гвардия, 2006), в которую вошли далеко не все материалы рукописи, указывается страница.
Полные тексты всех писем без купюр и сокращений публикуются впервые. Выдержки из некоторых писем опубликованы в книге Р.Д. Бащенко «Знаменательные встречи» (Симферополь: ДИАЙПИ, 2004). Тираж книги невелик — 500 экз., и она практически недоступна российским читателям. Письмо М.А. Волошина от 30 апреля 1929 года и ответ С.Н. Дурылина переписаны рукой Сергея Николаевича в тетрадь XIII «В своем углу» и с сокращениями опубликованы в книге С.Н. Дурылина «В своем углу» (М., 2006). В каждом конкретном случае публикация оговаривается в комментариях.
Письма М.А. Волошина часто написаны неразборчиво, особенно после перенесенного в 1929 году инсульта, трудно поддаются прочтению59. Число непрочитанных слов оговаривается в круглых скобках. Текст одного письма написан на рыхлой, промокающей бумаге, буквы расплылись, поэтому публикация его невозможна. Иногда письмо Волошина сопровождается припиской Марии Степановны. Мы приводим только три, чтобы показать характер отношений этих людей. Публикация всех писем Марии Степановны потребует отдельного издания.
Слова и имена собственные, сокращенные в тексте, раскрываются в прямых скобках при первом упоминании на странице. Авторские конъюнктуры даются в квадратных скобках.
Даты писем, установленные по содержанию письма, заключены в квадратные скобки.
Из-за обилия в письмах имен пришлось выделить их из комментария и поместить в отдельный список. Это касается имен и во вступительной статье.
Орфография и синтаксис писем приведены в соответствие с нормами современного правописания. Написание некоторых слов, характерных для орфографии Волошина, оставлены в авторской редакции: мiр, ея, которыя и т.п. Явные описки исправлены.
Благодарю за помощь в подготовке публикации сотрудников РГАЛИ и лично Марию Аркадьевну Рашковскую, сотрудников Мемориального дома-музея С.Н. Дурылина и заместителя директора по научной работе Анну Игоревну Резниченко, а также Ларису Евгеньевну Померанцеву.
Примечания
1 О писателе, поэте, литературоведе, искусствоведе, этнографе, религиозном мыслителе С.Н. Дурылине читатели, еще мало знакомые с его творчеством и биографией, могут узнать из книг: Дурылин С.Н. В своем углу. М., 1991 и 2006; «Я никому так не пишу, как Вам...»: Переписка С.Н. Дурылина и Е.В. Гениевой. М., 2010; Сергей Дурылин и его время. Кн. 1: Исследования. М., 2010. А также: журнал «Наше наследие» № 100, 2011; в публикациях «Московского журнала» № 7 за 2008, № 4 за 2010, № 7 за 2011, № 2 за 2012 год, в сборниках РГАЛИ «Встречи с прошлым». Вып. 7. М., 1990; Вып. 9. М., 2000; Вып. 10. М., 2004; Вып. 11. М., 2011 и в других изданиях.
2 Дурылин С.Н. В своем углу / Сост. и примеч. В.Н. Тороповой; Предисл. Г.Е. Померанцевой. М., 2006. С. 836. (Далее все ссылки на книгу даются по изданию 2006 года.)
3 Дурылин С.Н. У Толстого и о Толстом // Прометей: Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». М., 1980. Т. 12. С. 224–225.
4 Купченко В. Сплетение судеб // Калининградская правда. № 37. 7 апр. 2005 г.
5 С.Н. Дурылин испытал большое влияние «бедняка Христова» — святого Франциска и его проповеди любви ко всем тварям Божиим. Об этом он пишет в своем комментарии 1941 года к авторам «Антологии». Помимо «Жития» и сонетов, Дурылин написал предисловие к «Цветочкам святого Франциска Ассизского», переведенным А.П. Печковским и изданным в «Мусагете» в 1913 году.
6 РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 385.
7 Драматическую поэму Вилье де Лиль-Адана «Аксель» М.А. Волошин перевел в 1909 году для журнала «Аполлон», но публикация не состоялась.
8 М.А. Волошин перевел в 1910 году на русский язык оду «Музы» (опубликована в книге «Лики творчества». Л., 1989) и пьесу «Отдых седьмого дня» Поля Клоделя. Написал статью о нем. Волошин читал свои переводы «громко, декламируя, стараясь передать музыкальную меру подлинника».
9 Антология. «Мусагет», 1911. Комментарий С.Н. Дурылина 1941 года. Машинописная копия. Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина (далее МДМД). Фонд С.Н. Дурылина. КП-325/5.
10 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 799. РГАЛИ, ф. 1720, оп.1, ед. хр. 135. Автограф.
11 Волошин М.А. Выставка М.В. Нестерова // Весы. 1907. № 3.
12 РГАЛИ, ф. 2980, оп. 2, ед. хр. 237.
13 В автобиографии 1925 года Волошин пишет: «В 1913 году моя публичная лекция о Репине вызывает против меня такую газетную травлю, что все редакции для моих статей закрываются, а книжные магазины объявляют бойкот моим книгам». (Воспоминания о Максимилиане Волошине. М.: Сов. писатель, 1990. С. 30.)
14 Интервью с Нестеровым по этому поводу было опубликовано в газете «Раннее утро». 1913. 15 февраля.
15 Нестеров М.В. Письма. Л.: Искусство, 1988. С. 249, 483.
16 О Гениевой Е.В. см. книгу: «Я никому так не пишу, как Вам...»: Переписка С.Н. Дурылина и Е.В. Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010.
17 Цит. по рукописи: МДМД, фонд С.Н. Дурылина, КП 2060/1. Автограф синими чернилами на ветхой бумаге.
18 Гончарова Т.П. С.Н. Дурылин в Мураново // Сергей Дурылин и его время: Исследования. Тексты. Библиография. Кн. 1: Исследования / Сост., ред., предисл. А.Резниченко. М.: Модест Колеров, 2010. С. 100.
19 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 293, 305.
20 Дурылин С.Н. В своем углу. Рукопись, тетр. 6, № 68. МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП 265/12 // Новый мир. 2008. № 12. С. 152.
21 Цит. по: Бащенко Р.Д. Занимательные встречи. Симферополь, 2004. С. 177.
22 РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 480, л. 3. Автограф стихотворения М.Волошина, черными чернилами, крупным почерком, с ятью и с ером.
23 А.А. Блок умер 7 августа 1921 года, Н.С. Гумилев расстрелян 24 августа 1921 года.
24 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 301.
25 РГАЛИ. Ф.1720, оп. 1, ед. хр. 135.
26 Купченко В. Сплетение судеб // Калининградская правда. № 37. 7 апр. 2005 г.
27 МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП-2060/5.
28 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 297.
29 Возможно, это дочь А.А. Сидорова и Т.А. Сидоровой-Буткевич — Наталья; в 1926 году ей было около двух лет. Она стала искусствоведом, другом и корреспондентом С.Н. Дурылина.
30 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 406. Запись 16.12. [1927].
31 Тютчев Ф.И. Иным достался от природы...:
Не раз под оболочкой зримой
Ты самое ее узрел.
32 Екклесиаст (Экклезиаст), 1, 4: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает вовеки».
33 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 407–409. Запись 22.12.1927.
34 РГАЛИ, ф. 2980, оп. 1, ед. хр. 18, л. 8–20. (В примечании 1936 года к тексту доклада Дурылин пишет, что «Из нескольких предложенных академией имен М.А. Волошин выбрал автора этой речи». Доклад не опубликован.)
35 После челябинской ссылки Дурылина друзья помогли ему устроиться на работу в ГАХН внештатным сотрудником, и он проработал здесь с 1925 года по июнь 1927 года — до второго своего ареста.
36 «Я никому так не пишу, как Вам...»: Переписка Сергея Николаевича Дурылина и Елены Васильевны Гениевой. М.: Центр книги Рудомино, 2010. С. 101. Письмо от июня 1927 года.
37 Алексей Алексеевич Мечёв (1859–1923) — московский старец, настоятель церкви святителя Николая Чудотворца в Кленниках, где в 1920–1922 годах служил священником С.Н. Дурылин. В августе 2000 года юбилейным Архиерейским собором был прославлен как святой праведный. О нем см. книгу: Пастырь добрый / Сост., коммент. С.Фомин. М.: Серда-Пресс, 2000.
38 Бащенко Р.Д. Знаменательные встречи. С. 57–58.
39 1921 год в Крыму — время голода и «красного террора».
40 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 537.
41 Осел (фр.).
42 Edition — издание (лат.).
43 Пушкин А.С. Послание цензору.
44 Из письма к В.К. Звягинцевой. Томск. 19.07.[1928]. РГАЛИ. Ф. 1720, оп. 1, ед. хр. 135.
45 МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП-324/5.
46 М.А. Волошин умер 11 августа 1932 года в Коктебеле и похоронен по его просьбе на вершине приморского холма Кучук-Янышар.
47 Фет А.А. Ласточки.
48 Пушкин А.С. Братья разбойники.
49 Пушкин А.С. 19 октября.
50 РГАЛИ, ф. 1720, оп. 1, ед. хр. 135; Дурылин С.Н. В своем углу. С. 835–837.
51 Соответствие, сходство (фр.).
52 От реального к более реальному (лат.).
53 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 837.
54 Письма К.Ф. Богаевского С.Н. Дурылину опубликованы в кн.: Бащенко Р.Д. К.Ф. Богаевский. М.: Изобразительное искусство, 1984. Упомянутое Дурылиным письмо от 28.07.1932 — на с. 147.
55 Картину «Воспоминания о Монтенье» К.Ф. Богаевский написал в 1910 году. Навеяна она была впечатлением от живописи итальянского художника XV века Андреа Монтенье, полученным во время поездки по Италии.
56 Дурылин С.Н. В своем углу. С. 839.
57 МДМД. Фонд С.Н. Дурылина. КП 324/62: Письма С.Н. Дурылина к М.С. Волошиной 1932–1953 годов.
58 Богаевская Жозефина Густавовна (урожд. Дуранте; 1877–1969) — дочь Густава Антоновича Дуранте, владельца землями на восточном побережье Крыма — от Феодосии до Керчи. (Комментарий Р.Д. Бащенко в ее книге «Спутницы жизни» — И.А. Комиссарова-Дурылина и Ж.Г. Богаевская. Симферополь: ДИАЙПИ, 2010.)
59 К.Ф. Богаевский пишет 10.03.1927: «Дорогой Макс! Давно получил твое открытое письмо. С трудом мог разобрать, что пишешь, некоторые слова так и остались неразгаданными» // Бащенко Р.Д. К.Ф. Богаевский. М., 1984. С. 131.