Рецензии на книги: Алексей Иванов. Бронепароходы. — Елена Данченко. Голландская больница. — Виктор Сенча. Бонапарт: По следам Гулливера. — Олег Рябов. Луна в бокале. — Игорь Изборцев. Сильнее бурь
Алексей Иванов. Бронепароходы

«Бронепароходы» это не только роман, это — объемный сценарий для «остерна» — в стиле фильмов «Неуловимые мстители» или «Свой среди чужих, чужой среди своих» в атмосфере Гражданской войны в Поволжье. Даже четверти романа хватило бы для двухчасового киноприключения со стрельбой, паровозами и пароходами, героями, преследующими свои цели в хаосе Гражданской войны. К слову о пароходах — про них в тексте действительно много, от рек и навигации по ним зависит судьба героев. И нет, это не реклама одной крайне известной онлайн-игры, где тоже есть корабли. Это скорее продолжение советской кинотрадиции с ее «Броненосцем “Потёмкиным”», песней «Яблочко» и революционными матросами. Кстати, сцена знакомства матросов с женщиной-комиссаром из «Оптимистической трагедии» повторяется в «Бронепароходах» очень близко к тексту.
Но есть в «Бронепароходах» и принципиальное отличие от советской литературы, в рамках которой вполне мог бы развиваться этот сюжет. Здесь, что неудивительно, нет героизации большевиков. Большевики побеждают не за счет благородства и правильного учения Маркса–Энгельса–Ленина, а за счет напористости, жестокости, бескомпромиссности. Их лидеры, к примеру Леля и Ганька Мясников, несутся по стране, охваченные собственными страстями. Они упиваются властью — разрушая, испытывают настоящий катарсис. Конечно, совершенно не такими их рисовала советская пропаганда, книги и фильмы, которые многим современным читателям знакомы с детства. Но современники и историки разных политических взглядов чаще всего видели в большевиках сильную тягу к эмоциональному, художественному жесту и желание превратить свою деятельность в действо театральное, что так ярко показал Иванов. Автор не обошел в «Бронепароходах» и тему поэзии и литературного движения в России — ведь одна из главных героинь, Лариса Рейснер, мечтает о славе поэтессы и хочет доказать силу своего таланта Николаю Гумилёву. Но действия большевиков все же больше похожи не на акмеистскую стройность гумилёвских стихов, а на «Дыр бул щыл» Алексея Крученых и манифест футуристов — сбросить с волжских пароходов Пушкина, опытных судовладельцев, богатую публику и всех, кто мешает революции.
Некоторые могут ошибочно посчитать, что Алексей Иванов виновниками трагедии Гражданской войны видит только большевиков и роман, по сути, является хоть и талантливой, но агиткой. Но внимательный читатель видит, что автор подробно описывает, как самые разные внутренние и внешние силы еще до революции развернули борьбу на территории Российской империи и очень глубоко пустили в ней корни. Подковерная борьба нередко прорывалась наружу и обращалась кровопролитием то в нефтеносном Баку, то на улицах столичных городов — не случайно имперская власть в 1917 году уже окончательно упустила бразды правления и огромное государство стало полем битвы всех против всех. В этом хаосе на примере рационального мира речного хозяйства на Волге и Каме видно, как разум уступил буре и на сцену истории и палубу крупных судов вышли совершенно новые герои.
«Бронепароходы» это не только остерн (не зря же книги Иванова так часто превращаются в фильмы) и книга для мальчиков, но и очень русская история. Один из сюжетов — спасение Михаила Романова, родного брата Николая II. Как не вспомнить двух Лжедмитриев Смутного времени, Пугачева, выдававшего себя за Петра III, и народные легенды о спасшихся членах царской семьи, которые потом жили и работали во славу России в XX веке под другими именами.
Роман Алексея Иванова вышел темповым, без излишне объемных описаний и рассуждений. Это большое преимущество книги: когда того требует сюжет, внимание автора перемещается, смело вводятся новые герои и обстоятельства. Возможно, читателю понадобится составить список героев и периодически обращаться к карте, чтобы окончательно не запутаться. К чести автора надо сказать, что большое количество героев и обстоятельств ярко демонстрирует объемную работу историка.
«Бронепароходы» — чтение увлекательное, но нелегкое. Там много трагических эпизодов, драм и смертей... Но финал заставляет вспомнить последнюю строчку ахматовского «Реквиема» — «И тихо идут по Неве корабли» — и задуматься о том, что в русской культуре корабль часто является символом спасения в бурных житейских водах.
Георгий Рзаев
Елена Данченко. Голландская больница

Дневниковая экзистенциальная повесть Елены Данченко никого не оставляет равнодушным. В моем лице писательница обрела благодарного читателя. Дело в том, что я провел около трех лет в госпиталях и знаком с больничными условиями не понаслышке. Но лечили меня еще в советских больницах. А что происходит в современных лечебных заведениях за рубежом? Например, в Европе? Книга Елены Данченко дает нам возможность побывать в непривычной для отечественного пациента обстановке. При чтении книги у читателей возникает ощущение почти физического присутствия в нидерландской больничной палате. «Голландская больница» — это авторская исповедальная проза, которая вызывает прилив сочувствия к людям, помещенным в больничные условия. Книга очень личная, выстраданная, прожитая.
Елена Данченко обладает незаурядным литературным талантом. Она превращает сагу о человеческих страданиях в незабываемое путешествие, в котором наслаждаешься и языком автора, и живописными, часто сатирическими персонажами, которые проходят перед глазами главной героини. Тем не менее читателю может показаться, что героиня попала не в лечебное заведение, а в дурдом. (Написал — и улыбнулся: ведь сумасшедший дом — тоже вполне себе больница!) Елена описывает больничные будни с изрядной долей сарказма и черного юмора. Когда человек нездоров, у него обостряются все чувства, тонкой кожей он чувствует любую несправедливость, а голландская больница, в которую по страховке попадает пациент, — заведение довольно строгого режима.
Экзотично уже то, что в тамошних лечебных заведениях для мужчин и женщин существуют... общие палаты. Такое у них понимание гендерного равенства. Это создает бытовые проблемы для пациентов, особенно для женщин. Врачебные процедуры, начиная с поликлиники, напоминают хождение по мукам. Пациента «динамят», говоря языком сленга, поскольку анализы и обследования, абсолютно необходимые для операции, предлагают делать где угодно, но только не там, где, собственно, операцию будут проводить. Вдобавок ко всему у автора, Елены Данченко, а она и есть главная героиня повести, очень подвижная нервная система, что часто свойственно творческим людям. Поэту, попавшему в лапы эскулапов, тесны любые рамки, а деятельность лечебных учреждений повсюду регламентируется строгими законами, которые к тому же повсеместно нарушаются самими медиками. Любая малость, любая деталь может вывести пациента из себя. Но любая малость может и обрадовать, и укрепить дух. Однажды Елена увидела в душе своей одиночной больничной палаты шахматный пол и сразу подумала: это мама помогает с Небес. Мама писательницы была сильной шахматисткой, входила в состав сборной Молдавии. Когда родилась Елена, маме пришлось оставить шахматы: она не могла ездить по соревнованиям, поскольку не с кем было оставить ребенка. Темперамент Елены Данченко, унаследованный ею от матери, часто вредит ей, но часто и выручает, когда нужно постоять за себя и за свои права.
Люди, даже одной национальности, все разные. То, что одному человеку представляется важным, другому кажется ничтожным, и на этой почве даже между здоровыми людьми возникают конфликты. Как же нам быть? «Быть или не быть? Вот в чем вопрос». Жизнь учит нас терпимости. Однако терпимость и толерантность вещи разные. В толерантности велика доля политики, поэтому она часто бывает со знаком «минус». И об этом повествует Елена Данченко.
Споры между россиянами и голландцами идут вокруг пресловутой политкорректности, младшей сестры толерантности. Есть кардинальные различия между русским и европейским менталитетом. Нам кажется, что у них все вывернуто наизнанку. Прикрываясь ложными представлениями о приличиях, уроженец Нидерландов ведет себя вроде бы мягко, но неестественно и издевательски, проявляя, по выражению Елены Данченко, «нежный фашизм». Иноплеменницу гнобят за то, что она не местная, но делают это в рамках закона. Не подкопаешься. В основном это свойственно врачебному персоналу голландских больниц. Вначале мне показалось, что такова местная специфика. Но такой же «веселой» и негостеприимной для Елены, со своими «прибамбасами», оказалась и больница в испанской Андалусии. Исторически сложилось, что в этой испанской провинции жили цыгане. И, видимо, «цыганщина» вкралась и в быт местных больниц. По закону Андалусии пациент может подселить к себе в палату здоровых родственников. Для этого в палатах предусмотрены специальные кресла. Родственники больного могут остаться в палате на ночь, они могут даже жить там вместе с пациентом до выписки: есть-пить, пользоваться палатным туалетом в уличной обуви, болтать всю ночь... Чем не цыганский табор? Русского человека, конечно, это шокирует. Больному-сердечнику хочется тишины, внимания и если не любви, то хотя бы покоя, тем более что покой совершенно необходим для этой категории больных.
Помимо повести, в книге Елены Данченко представлены тринадцать рассказов и два очерка. Два рассказа из тринадцати — «Анна из Верхних Альп» и «Бабочка» — обладают, на мой взгляд, потенциалом повестей. Читая новую книгу Елены Данченко, я сделал неожиданное открытие. Одну и ту же историю Елена рассказывает два раза: первый раз — как постороннюю, с чужими иноязычными персонажами, а затем как свою собственную, глубоко личную. Ни у кого из писателей я не припомню такого драматургического хода. Конечно, в рассказе «Вот такое кино» акцент перемещается на образ отца героини, о котором в «Анне из Верхних Альп» сказано вскользь, что он был добрее матери. На боевой характер мамы писательницы, возможно, повлиял страшный концлагерь Равенсбрюк, в котором ей пришлось мучиться три с половиной года. Мамин концлагерь и дочкины больницы — два пика человеческих страданий в новой книге.
Рассказы Елены образуют с повестью о лечебнице в Нидерландах смысловое единство. Тяжелые испытания часто пробуждают у человека скрытые до поры до времени возможности. Пример Елены Данченко и ее родителей подтверждает: Господь наградил нас самыми разнообразными талантами, которые долго могут находиться в «спящем» состоянии. Так, например, шахматные способности у мамы Елены открылись уже в зрелом возрасте. Испытания и утраты компенсируются и уравновешиваются пробужденными способностями. «Просто выжить на войне — уже подвиг», — говорит в своем монологе мама Елены. Характер человека закаляется в борьбе с неблагоприятными условиями. Но надо держать хвост морковкой, даже если морковка предназначена для лошади!
Название второй части книги — «Морковка для лошади Синтер Клааса» — звучит символично, хотя и непривычно для русского слуха. Писательница словно бы подчеркивает свое положение иностранки среди аборигенов, «чужой», которую местные люди постоянно норовят задеть из-за ее акцента, и одновременно «лошадки», перед носом которой держали «морковку» — символ операции, которую пришлось буквально выгрызать у равнодушной системы. «Голландская больница» — книга о человеческом достоинстве, о том, чего нельзя купить ни за какие деньги. Книга Елены Данченко помогает нам преодолеть искривленность нашего мировоззрения: мы по старинке думаем, что везде в мире хорошо и только у нас — плохо. Но это совсем не так, поэтому такие честные книги нужны. Они воодушевляют и побуждают нас не сдаваться в сложных ситуациях, которые нам то и дело подбрасывает жизнь. «Бороться и искать, найти и не сдаваться», — вспоминаются слова Альфреда Теннисона, которые высечены на могиле полярного исследователя Роберта Скотта. Но эти же слова должны быть девизом для живых людей, ищущих спасения и выздоровления вопреки любой системе.
Александр Карпенко
Виктор Сенча. Бонапарт: По следам Гулливера
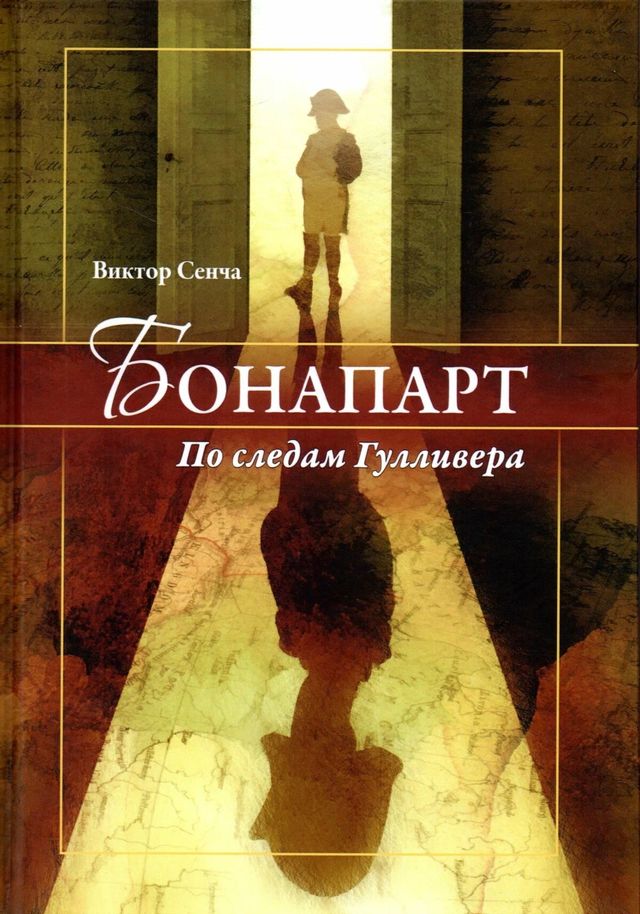
Возможно, Наполеон Бонапарт человек, о котором написано больше всего текстов в мире, или, по крайней мере, он входит в топ-список таких людей. Поэтому всякий желающий сказать слово об этом историческом персонаже должен понимать, что он включается в слишком объемистый ход, в котором его голос вряд ли будет отчетливо слышен.
Виктора Николаевича Сенчу это соображение не остановило. Он хотел написать о Бонапарте и написал.
Попытался быть оригинальным, назвал свой текст роман-хроника, построил свое сочинение в определенной степени по романному принципу, применил обратную композицию, но все равно не сумел написать абсолютно оригинальное сочинение. И романы были.
И обратная композиция применялась, то есть повествование из конечной точки жизни императора, с места его последней квартировки — острова Св. Елены.
Но простив все это Виктору Николаевичу, простим даже несколько рыхлую общую структуру текста, которая возникает от слишком большого количества втиснутого в сочинение материала, иногда совершенно второстепенного.
Читать в целом довольно интересно, потому что Виктор Николаевич сообщает по ходу повествования большое количество фактов, иногда важных, иногда любопытных, иногда лишних, тормозящих повествование, но все же тоже интересных. Подробные сноски, касающиеся всех маршалов Наполеона и большинства заметных людей его эпохи, были бы ценны в тексте лет двадцать назад, но сейчас, в пору всеобщего Интернета, выглядят безусловно излишними.
Язык повествования легкий, не «занаученный», что выглядит безусловным достоинством.
Некоторые сомнения вызывает трактовка некоторых исторических персонажей. Например, Фуше. Он выглядит у Виктора Николаевича Сенчи иначе, чем в нескольких классических трактовках образа.
В общем, следует сказать, что произведение Виктора Николаевича Сенчи выполняет поставленную им перед собой задачу — пробуждает интерес к этой огромной исторической фигуре и свидетельствует о том, что он, этот интерес, никогда, видимо, не угаснет.
Олег Рябов. Луна в бокале

В аннотации к этой книге написано: «Новая книга известного нижегородского писателя Олега Рябова составлена из стихов, написанных автором за последние годы». Это любовная и философская лирика, а также размышления о судьбах Родины.
Ну, пусть так.
Аннотация как аннотация.
Что там за ней.
Возьмем пример любовной лирики.
То, что я Вас любил, не помеха
Никому, а тем более Вам.
Я любил Вас до слез, но со смехом
Повторяю Вам эти слова.
Ах, не стоила юных бессонниц
И немых телефонных звонков
Ваша старость, с которой на склоне
Неожиданном стал я знаком.
Подойти бы, сказать: «Как любил я!»
Не узнаете — я был хорош!
Сколько лет так мечталось, копилось,
А свершилось — на ломаный грош:
И согбенна, и тросточка сбоку —
Про такую не думал про Вас.
Сколько лет? Не припомню, нисколько...
Нет, узнали: вон искры из глаз.
Что это такое?
Разберем лирический сюжет.
Герой неожиданно встречается с предметом своей юношеской страсти, и единственное чувство, которое в нем просыпается, это желание узнать у старушки, каков он был как любовник. Конечно, годы весьма сказались на ее облике. Интересно, что сам он выглядит в этом эпизоде как все тот же бравый молодец.
Ничего не говорю о формальной стороне дела, ну разве что «бессонниц — на склоне» и «любил я — копилось» слишком уж приблизительные рифмы для профессионального поэта. Основные претензии вызывает моральный облик лирического героя: какой-то самовлюбленный тип, к тому же почему-то не подверженный действию времени.
Теперь об «историософской лирике». «Мелеет Европа». Сообщены общеизвестные сведения. С общим пафосом можно и согласиться: «Но я сожалею, что быстро мельчает Европа». Однако какая-то тяжелая путаница с последовательностью исторических событий у автора.
Как Греция, чудо-легенда, рассыпалась в прах?
Когда укрепления Рима пропали в руинах?
Получается, что Греция исторически рухнула только после того, как «пропали в руинах» укрепления Рима. Между этими событиями было лет семьсот. Матчасть надо учить, а потом философствовать. Или точнее выражаться.
В общем, странная книга...
Сергей Шулаков
Игорь Изборцев. Сильнее бурь
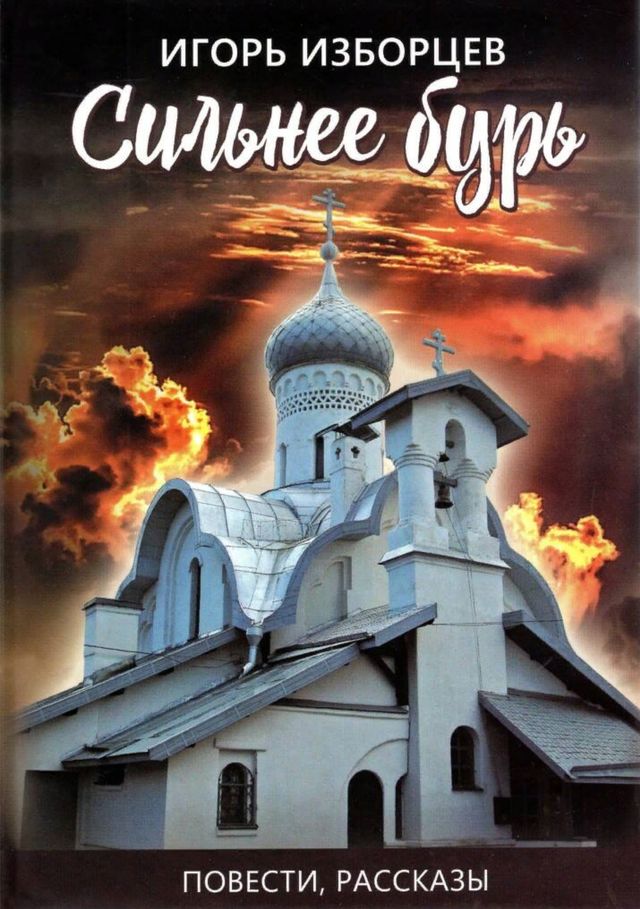
Современный человек существо одинокое. И речь здесь совсем не об одиночестве духовном, потаенном, которое невозможно до конца хоть кому-нибудь высказать, а об одиноком присутствии человека в миру, в житейском пространстве, в котором, кажется, и знакомые лица, и привычный распорядок часов, минут и забот способны вписать одинокую душу в окоем повседневности. Но что-то сломалось в устройстве нашего мира, и гнетущая, непреодолимая как будто оставленность — людьми, смыслом жизни, самим содержанием происходящего вокруг — терзает сердце нашего современника необъяснимо и постоянно. Здесь можно завести разговор о богооставленности человека нового времени — это будет логично и обосновано многими вещами, о которых мы часто просто забываем или легкомысленно о них не думаем. Но чувство личной богооставленности в мире приходит к человеку уже после того, как он ощутит себя включенным в некое общее целое, когда, привычно обретаясь в его рутине и вписывая свое присутствие в повседневный жизненный уклад, и станет, и осознает себя некой частью этого единого миропорядка.
Современная русская проза не очень-то погружается в обозначенную тему. Как правило, ее более интересует — и, в конечном счете, это правильно — соразмерность человека его задачам, соединенность с Богом и понимание собственного индивидуального духовного долга, о котором важно помнить в ежедневном течении дня и ночи. Но как быть с мгновениями реальной жизни, в которой так много случайного, печального и радостного? Она составляет непрерывный поток, и из него нельзя самовольно «выпрыгнуть», остается только соединять себя с ним, принимая одно и отвергая другое. Такое житейское понимание одиночества, которое правильнее назвать одинокостью, сегодня чрезвычайно распространено, его проявления часты и многообразны и нуждаются в художественном внимании и реальном обозначении. Потому что первый шаг в постижении большого и общего заключается в естественной попытке вписать свою жизнь в контекст происходящего с людьми: с их памятью и чувством долга, с их обществом, в котором невидимыми нитями соединены родные и чужие, старики и дети, с эпохой, где все норовит взаимно разладиться, но сохраняется по великой надмирной милости и смыслу...
Проза Игоря Изборцева как нельзя лучше подходит для спокойного осмысления так странно сложившегося положения вещей. В его повестях и больших рассказах читатель сталкивается с палитрой стилей. Скажем, один сюжет берет в качестве «творческого инструмента» постмодернистское смешение событий, логики, картин действительности и даже соразмерности плотных материальных предметов. Погружая читателя в советское мироустройство в «Чудесах болотных», автор, кажется, взламывает заведенный социальный распорядок, привнося в происходящее элемент фантасмагории и волшебства, и как будто показывает, что у знакомого мира есть параллельный объемный отпечаток, где существуют свои законы и пути совмещения привычного и странного. Реальность словно плывет под пером писателя... И читатель, изумленный таким преображением осязаемого и почти стертого в повседневности, начинает воспринимать прошлое уже не в качестве конструкции, заведомо рациональной и жестко мотивированной, а как прежний мир, очень важные и подчас фантастические свойства которого были упущены, оставлены без внимания. Существенно, что главный герой повести — подросток, и во многом именно потому способность окружающего пространства менять себя, принимать какие-то новые удивительные формы не кажется искусственной, вычурной, похожей на проделки либерального пера, склонного все серьезное превращать в пошлое или амикошонское. Мальчишка начинает свято верить в возможности собеседника-незнакомца влиять на происходящее, у него появляется своя тайна, душа устремляется в удивительное и прежде невообразимое. Он почти поднимается над пыльной землей, забывая о жестких правилах, принятых однажды и непререкаемых. Он теперь — не один, хотя как сложится его последующая судьба, можно только догадываться. Но здесь важнее сам случай, прецедент, тот чудесный рубежный момент, когда мир предстает в неожиданном ракурсе, а одинокое существование отменяется решительно и навсегда.
В повести «Всего лишь пепел» центральный герой предлагаемой истории — фигура малоприятная. Это милицейский начальник Пузынёв, возомнивший себя вершителем судеб окружающих его людей и стремящийся переустроить социальное пространство по своему усмотрению. Он изначально одинок — как бывает одинок духовный отщепенец, для которого все вокруг представляются только «условно живой» мебелью, инертными вещами, в разной мере пригодными для использования: их позволительно передвинуть, отменить или даже уничтожить без лишних сомнений. Подобное душевное наполнение его с течением дней приобретало все более устойчивую форму, что делало Пузынёва нетерпимым ко всякому иному человеческому правилу. Отчего-то его необъяснимо оскорбляло строительство храма неподалеку от личного особняка, все силы свои он старался положить на то, чтобы ни прихода православного, ни церкви рядом не было. Безумная логика и ненависть по отношению к соседям, людям русским и православным, подвигла его на клевету. Будь он человеком иного рода-племени, хоть какое-то объяснение можно было бы дать его немотивированной злобе. Но он здешний, укорененный в земле, по которой ходили его предки. И потому — нравственный изгой, человек, сам себя загнавший в социальную и психологическую ловушку, определивший собственному существованию путь одинокий, самонадеянный и... окаянный. Все злокозненные предприятия Пузынёва рушатся: уходит жена, православная прихожанка, вызванный им ОМОН пропадает в храме, не ведая часов и минут, пребывая в каком-то нездешнем времени. Претерпевает крах план воцариться на малой окрестной местности, предстать вершителем судеб простых смертных — в определенном смысле даже и его подданных, которым и слова в простоте и чести сказать было бы не позволено. В итоге он остается в пространстве сугубо одиноком, исполняя обязанности простого санитара в психиатрической лечебнице. Пузынёв старается быть здесь полезным и внимательным, находя в таком служении своеобразный уход от личной пустоты. И получает здесь то, чего ему так не хватало прежде, — чувство, что и он кому-то не просто нужен, а необходим.
Два персонажа «романа в письмах по e-mail» с названием «Великий» сначала кажутся очень похожими друг на друга. Филологическая игра на фоне деталей биографии И.С. Тургенева сводит обоих в электронной переписке, где выстраиваются предсказуемые параллели с далеким прошлым, возникают подробности чужих биографий. В своих виртуальных посланиях каждый из собеседников хочет хоть в чем-то соприкасаться с русским классиком и его героиней, походить на них. Однако писатель-дубль по мере развития этой истории выглядит все более поддельным, не совпадающим со своим выдающимся литературным образцом. Тогда как дубль-героиня, поступательно двигаясь в сторону реальности и принимая людей со всеми их недостатками и достоинствами, кажется, довоплощается. Уходя от сухой интеллектуальности и вслушиваясь в биение собственного сердца, она обретает плоть и кровь, в ней просыпаются доброта и участливость, а сухость ума и сентиментальная фантазия исчезают из переписки окончательно.
Героиня-дубль трагически погибает от хулиганского удара ножом. Дубль-писатель, и ранее не чуравшийся плагиата, готовит к изданию роман в письмах, в котором не забывает представить себя художником основательным и вдохновенным. Но, не дождавшись выхода книги в свет, умирает при неясных обстоятельствах. Главный бенефициар — издательство: предлагая читательской аудитории названное произведение, оно характеризует автора как фигуру великую...
Что ж, нынешние книжные дома либерального толка склонны каждого лилипута «вытягивать» в Гулливера. Однако важно подчеркнуть мысль, существенную для произведения Игоря Изборцева: фальшивый сочинитель ушел в смерть как в одинокое и безотрадное путешествие, а героиня, сливаясь со своим классическим прототипом, выбрала мир подлинной жизни — теплый, отзывчивый и жертвенный.
Стоит заметить, что с уходом персонажей от душевной молекулярности, одинокости зримо изменяется литературное письмо автора. В повести «Всего лишь пепел» сама фактура текста в какой-то степени отсылает читателя к булгаковской фантасмагории. В «Великом» рафинированный стиль высказывания начитанных собеседников постепенно становится более прозрачным и этически определенным. По мере удаления литературных героев Изборцева от житейской пропасти и приближения к чаемому единению с чем-то большим, чем каждый из них, и даже на удивление очевидным, авторская речь приобретает яркую и естественную выразительность, не теряя притом прозрачности изображаемых картин и состояний.
В рассказе «Свадьба» происходят события почти обыденные — живописуется свадебный пир на современный лад в деревне. Как будто все теперь иначе на первозданной крестьянской русской земле: и обычаи позабыты, и хлебосольное гостеприимство стало в какой-то степени выборочным, и песни современные поются так, что с души воротит... Ушла традиция, забылась красота, потеряно значение многих обрядов и правил. Престарелого Ивана Васильевича за праздничный стол не пригласили, но любопытство заставило старика забраться в густой кустарник на улице и внимательно наблюдать за происходящим. И примечательно, что все описанные ухарства сельских обывателей, отличавшихся непредсказуемым поведением, не кажутся особенно яркими — в них бурлит только эмоция, подкрепленная водкой, а это не новость, примеров подобных множество. Но вот отпела молодежь нынешние шлягеры с дрянными словами, отплясали гости положенное — и завели старики и молодые прежние песни, в которых душа и судьба не отворачиваются друг от друга, а сливаются во что-то одно, родное, никем и никак не разделимое... Пусть казалось старику, что выглядит он нелепо в своем укрытии и что происходит все положенное совсем не так, как должно. Но сошла короста текущего порченого дня — и обратилась душа одинокая, о том даже и не подозревающая, к знакам родовым, к символам объемным, к бессознательному единению старого и молодого, минувшего и наступающего. К тому, что роднит одного русского человека с другим. Увиделось в этом глубинном родстве самое важное, что не позволено стереть никакому самоуверенному новому времени.
«Помни последняя своя...» — так называется проникновенный рассказ автора, в котором происходит слияние одинокого бытия человека с одиночеством его души и возникает долгожданный выход в то высокое духовное пространство, где все другие этапы возрастания личности становятся только небольшими отрезками тернистого душевного пути. Панорама колоритных фигур наполняет сюжетный объем текста, у всякого персонажа здесь своя примечательная черта характера или обыкновения. Но поверх имен и лиц присутствует в рассказе старик Мармеладыч, многие годы обретающийся на паперти храма. Его словам присуще совсем другое измерение — не житейское, в котором пребывают практически все остальные. Причем сама художественная ткань повествования очень емкая по ассоциациям, по привлечению в прозаическую «живопись» суждений скрытых, вовсе не наглядных. Образность авторской речи, широта взгляда на самое ощущение жизни сообщают произведению особенное обаяние и изобразительную полноту. Рассказ может быть назван одним из лучших в творчестве Игоря Изборцева — так или иначе он подводит видимую черту перед проблематикой, которая исподволь обозначила себя в томе прозы «Сильнее бурь».
Русский человек теперь почувствовал себя не одиночкой, а живым, деятельным сыном своей земли. Это роковые события последних полутора лет прояснили его ум, настроили сердце, дали слова, которые он может говорить весомо и безбоязненно. Но хочется верить, что настоящая, честная проза наших писателей, в течение долгого времени отчужденная от массового читателя, все-таки непостижимым образом проникала в общественное сознание, делая в нем важные и необходимые «поправки», обозначая место, на котором стоит сегодня русский воин, как родную почву.
Так мы восстанавливаем память рода и непререкаемость нравственного завета — двигаясь от житейского к духовному, постепенно находя в себе глубинные скрепы, значимые для стариков, отцов и детей. А литература наша, вглядываясь в современника, помогает ему понять себя не предвзято и не лукаво...
Вячеслав Лютый




